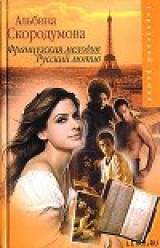
Текст книги "Французская мелодия, русский мотив"
Автор книги: Альбина Скородумова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Письмо длиною в жизнь
«Свое детство я вспоминаю отрывками, как старое кино. То вижу себя шестилетней девочкой в воздушном розовом платьице, играющей с гувернанткой-француженкой Жаннет на лугу в родовом поместье Кувшиново, то совсем юной гимназисткой, идущей по набережной Невы, то веселой, смеющейся девчушкой в костюме Снежной Королевы на балу в великолепном особняке.
Говорят, что с возрастом память обостряется, и если старушки вроде меня не могут вспомнить, куда положили очки, то свое детство и юность помнят до мельчайших подробностей. Со мной же такой метаморфозы не произошло. Отчетливо я вспоминаю только то время, когда мне было уже лет десять и я начала учиться верховой езде, при этом считала себя самой счастливой на земле. Своего отца – Александра Кирилловича Панина – я боготворила. Он был похож на гусара из книжки про битву при Бородино – подтянутый, статный, с пышными усами, вьющимися черными как смоль волосами. С лошадьми он обращался бережно, я бы даже сказала, трепетно, как с разумными существами. Разговаривал, кормил с ладони сухариками или кусочками сахара, а своего любимца Аполлона обнимал при встрече. Наверное, на генетическом уровне эта любовь передалась и мне, и я сохранила ее на всю жизнь.
Моя матушка была противницей подобного увлечения, а когда узнала, что отец научил меня держаться в седле, и надо признать, весьма недурно, то вообще пришла в ужас. Упрекала отца: «Ты ее еще из лука стрелять научи, будет прямо Диана-охотница. Она, между прочим, без пяти минут гимназистка, а ты ее в немыслимые штаны обрядил».
Отец парировал, что должен же кому-то передать свои коронные навыки верховой езды, и если уж она не удосужилась родить ему сына, то придется учить старшую дочь. Далее между родителями, как правило, начиналась перепалка, матушка удивительным образом умела делать скандалы из ничего. Отец обижался, уезжал в полк, пускался в кутежи и по нескольку дней не появлялся дома. Я при этом чувствовала себя виноватой.
Но ссоры возникали не только из-за верховой езды, поводом для них чаще всего была наша с Ольгой гувернантка Жаннет, необычайно милая француженка. В нашем доме она оказалась случайно – ее выписали из Франции знакомые матушки для своей дочери, но пока она ехала морем из Франции, ее будущая воспитанница заболела испанкой и вскоре скончалась. Поэтому ей срочно пришлось искать новых хозяев. Матушка решила взять ее в наш дом для меня и сестры Оленьки, хотя это было несколько дороговато для семейного бюджета, который папенька основательно сократил. Увы, любовь к лошадям, скачкам, бурным кутежам с полковыми друзьями и, скорее всего, дамами полусвета, практически разорили нашу семью. Матушка была очень практичной женщиной и не допускала отца до ведения дел в нескольких пусть и захиревших, но все-таки поместьях, доставшихся ей в наследство от родителей. Тем и жили.
Естественно, как истинный гусар, папенька просто не мог игнорировать присутствие в доме прехорошенькой молоденькой девушки и считал в порядке вещей раз по двадцать на дню делать ей комплименты. Жаннет вела себя достойно: реагировала на них лишь легким кивком головы, принимая как должное. Никакого кокетства или, упаси бог, попыток отвечать на папенькины знаки внимания, она себе не позволяла. В Россию она приехала заработать денег, а затем открыть на эти средства галантерейный магазин в предместье Парижа. У нее, кстати, был жених, по которому она очень скучала и писала письма. Жаннет нельзя было назвать легкомысленной особой, маменька прекрасно понимала это, но тем не менее безумно ревновала отца к бедной француженке. Ровно настолько, что, даже переехав после революции во Францию, не попыталась найти ее.
А потом грянула Первая мировая война. Отец мой к тому времени служил в Генеральном штабе, после объявления мобилизации одним из первых уехал на германский фронт. Служил в полку князя Долгорукова, своего приятеля, дважды был ранен, к счастью не тяжело, но ранения серьезно повлияли на его мировоззрение. В те редкие дни, когда он появлялся в нашей квартире у Николаевского моста, он уже не шутил с нами и не дурачился, а все больше молчал. Даже с матушкой перестал ругаться. Хотя, как я узнала позднее, в то время он фактически жил на два дома. У него появилась женщина, о которой мама узнала. Скандала не было, все списала война. К тому времени надо было выживать, существовать, так что обычных сцен матушка не устраивала. Понятно было, что отец приезжал только ради нас с Оленькой.
Матушка продала все, что возможно было продать, умудрилась скопить немного денег. И сделала это очень своевременно, потому что совершенно неожиданно для нас всех пришло известие о гибели отца. Случилось это в самом начале зимы в 16-м году, когда русские войска под командованием генерала Брусилова перешли в решительное наступление на австрийском фронте. Мой отец погиб, как герой, в бою. Похоронили его на чужбине. Полковые друзья помогали какое-то время матушке, но в водовороте Событий постепенно все забыли о капитане Панине. Однако матушка пи на чью помощь и не рассчитывала, к тому времени она уже научилась выживать…
Продала кое-что из драгоценностей, шубки, меха – все, что имело хоть какую-то ценность. Мы переехали жить к ее модистке Дуняше, которая фактически была подругой, в скромную, но достаточно просторную квартиру на Васильевском острове. С утра матушка уходила искать работу, продавала вещи, приносила еду. Удивительно, но в холодный и голодный 1917 год у Дуняши не переводились заказчицы. Купеческие дочки, начинающие литераторши, актриски валом валили к Дуняше.
Мы с Оленькой обожали смотреть на примерки, прислуживали, как могли, умудрялись даже получать «чаевые», особенно это удавалось Оленьке. Она была прелестным ребенком – пышные кудрявые локоны, голубые глаза, ямочки на щеках – при виде ее клиентки умилялись. Дуняша умело пользовалась этим, рассказывая, как бедной девочке несладко живется: «Отец геройски погиб на войне, мать обнищала совсем, вот я их и пригрела, теперь работаю, как каторжная, чтоб детки не голодали». При этом у нее из глаз катились слезы, а Ольга, глядя на это, тут же начинала тихонько всхлипывать.
Спектакль имел успех. Жалостливые дамы тут же доставали кто денежку, кто конфетку и угощали сестру, а потом что-нибудь протягивали и мне. К вечеру приходила мама, приносила копченое мясо, вологодское масло, пирожки, и мы устраивали роскошный ужин. Дуняша доставала из дальнего, неприметного шкафчика наливку собственного производства, которую они с матушкой очень любили. Мы с Оленькой тоже выкладывали на стол трофеи. Так и жили, очень, кстати сказать, не плохо.
Потом матушке пришла идея отправить меня в Малатьевский. Что побудило ее к этому, не берусь судить. Оленьку она оставила, меня па четыре года отправила «на курорт», естественно, из самых лучших побуждений. А мне же казалось, что я ей просто мешала. Она написала своей няне очень жалостливое письмо, просила приютить меня на некоторое время. Дождалась ответа с согласием от Василисы Кузьминичны, выбрала время потеплее и посадила меня на поезд до Екатеринодара.
На маленькой станции я вышла из поезда, Василиса Кузьминична поджидала меня на телеге со своим племянником Петром – огромным дядькой лет сорока. Увидев меня, она замахала рукой и громко запричитала: «Ой, дитятко мое, сиротинушка бедная, несчастная…» Все, кто стоял на этом захолустном перроне, сразу обратили на меня внимание. Кто-то говорил: «Бона вишь, к Кузьминичне из столицы сиротка приехала, худышка какая, оголодала совсем». Люди так прониклись и расчувствовались, что стали подносить к телеге кто сала, кто хлеба. Я, конечно, тоже разревелась. Так состоялось мое первое знакомство с Югом России, где я прожила больше четырех лет.
Первый год я ежедневно думала о том, что больше не увижу ни матушку, ни сестру, чувствовала себя забытой Богом и людьми. Мне было очень тяжело. Потом привыкла. Кузьминична была, пожалуй, самой доброй женщиной, какую мне довелось повстречать за всю мою долгую жизнь.
В молодости она уехала в Санкт-Петербург на заработки, устроилась в дом к богатым господам – родителям моей матушки, которых я, увы, в живых не застала, и много лет служила им верой и правдой. Сначала помогала на кухне, потом ее присмотрела моя бабушка, Анна Константиновна Любарская, и перевела в горничные. От Василисы Кузьминичны я многое узнала о своих предках, о которых матушка нам почти ничего не рассказывала.
Мой дед Григорий Петрович – потомок знатного княжеского рода Любарских – был невероятно богат. Женился он па бабушке, будучи зрелым мужчиной 43 лет, в то время как ей шел только двадцатый годок. Однако, по признанию Кузьминичны, супруги обожали друг друга.
Аннушка долго не могла родить деду ребенка по причине слабого здоровья. Матушка появилась на свет, когда деду было почти пятьдесят лет. Он не отходил от постели жены, которая тяжело переживала последствия родов. Дочь родилась настолько слабой, что надежды на то, что она выживет, не было почти никакой. Однако дед велел нанять лучших докторов и для жены, и для дочери, а также найти здоровую кормилицу для новорожденной. Кормилицу привезли вместе с крохотной дочерью и поселили в комнате рядом с Аннушкиной спальней.
Постепенно новорожденная стала поправляться, набирать вес и радовать своего седовласого отца ямочками на пухлых щечках. Кузьминична вспоминала, что рождение дочери невероятным образом повлияло па князя Любарского. Позднее отцовство творит чудеса. Он забросил все свои любимые привычки: конные прогулки, игру в вист по четвергам, уединение в тиши своей библиотеки. Все свободное время проводил в детской у дочери, не забывая, впрочем, навещать долго хворавшую супругу. Кстати, бабушка после тяжелых родов не могла больше иметь детей, поэтому матушка была в семье единственным ребенком, изнеженным и разбалованным до неприличия. Однако необычайно милое, просто ангельское, личико и невероятное обаяние делали ее всеобщей любимицей не только в доме Любарских. С малых лет ее начали вывозить в свет – на рождественские утренники, другие праздники, и везде она была в центре внимания.
Кузьминична, вспоминая матушку в детстве, менялась в лице. Не имея своих детей, она любила ее как родную дочь. Она прослужила у Любарских больше 40 лет, пережила своих хозяев. Потом ее ненаглядная воспитанница настояла па том, чтобы Кузьминична вернулась на свою родину. Она жалела старенькую няньку, которой давно хотелось «на волю», но об этом она боялась даже заикнуться молодой барыне. Матушка сама приняла решение отправить верную няньку па юг, заплатила ей сполна за службу и отправила поездом в Малатьевский, где жили ее близкие родственники.
К моменту моего приезда на жительство в Малатьевский Василиса Кузьминична превратилась в заправскую хуторянку с огромным хозяйством: куры, козы, коровы, свиньи. Первое время жила вместе с семьей старшего брата, но потом решила, что на старости лет может пожить самостоятельно, сама себе и барыня, и служанка. Поставили хату рядом с братовым двором, постепенно завела хозяйство да и вошла во вкус. Пригрела младшего своего племянника Петра, детину здорового, сильного, но умом недалекого. Может быть, поэтому и жалела его больше всех. Жену ему было никак не найти, так и жил при старой тетке. Работал то у отца, то у Кузьминичны, причем силы был недюжинной. Как Балда у Пушкина – «ест за троих, работает за семерых».
По причине слабоумия не взяли его на войну, в отличие от двух остальных братьев. А те вернулись с войны совсем другими людьми. Старший Степан увлекся идеями Ленина, этакий деревенщина-революционер, а средний Игнат оставался человеком кулацкой закалки. Однако жили дружно, спорить – спорили, но чтоб брат на брата с кулаками пошел по, так сказать, идейным соображениям, такого я не припомню.
Меня все приняли хорошо, Кузьминична постаралась. От родственников скрыла, что я княжеских кровей, представила меня как племянницу господской кухарки, осиротевшую во время германской войны. Конечно, жизнь в голодном Петрограде была не сахар, но мы не бедствовали. Матушка следила за тем, чтобы мы с Оленькой не теряли форму – мучного много не давала, маслом не баловала. Поэтому, выйдя из переполненного душного поезда, в котором я ехала несколько дней, вид я имела далеко не барский. Рыдающая Кузьминична растрогала не только меня, но и Петра, он тоже подвывал вместе с нами, сидя на, телеге. А для окружающих сцена на перроне стала просто самой актуальной темой обсуждения в течение нескольких дней. В общем, прибыла на Юг я не дворянкой, а несчастной сироткой – кухаркиной дочкой.
Сложности начались потом, когда я, отоспавшись на мягкой перине и отъевшись, должна была потихоньку приступать к работе по хозяйству. Обращаться с лошадьми я умела очень ловко, однако демонстрировать это было нежелательно. Откуда кухаркина дочь могла такому обучиться? Поэтому пришлось тщательно скрывать свое умение скакать верхом. Доить коров и коз я научилась с большим трудом, куда больше мне нравилось их пасти. Свиней боялась ужасно, особенно хряков. Как ни уговаривала меня Кузьминична, я так и не смогла пересилить себя. Постепенно все привыкли к тому, что мое призвание – пастьба коров, коз и овец. Ну а чего еще от кухаркиной дочки можно ждать?
Помимо своих коров – Ночки и Зорьки – мне стали поручать пасти и всех хуторских. Я не сопротивлялась. С первыми петухами собирала узелок с едой, выгоняла своих телок, по дороге забирала еще семерых коров и уходила с ними на дальний луг. Выбирала местечко поуютней, у речки или ручья, в тени. Днем подолгу, бывало, я грезила о том, как вернусь в родной Питер… Однажды очень уж увлеклась, совершенно забыла о своих буренках. Ночка и Зорька – тучные, ленивые откормленные телки – далеко от меня не уходили, а соседские коровушки так и норовили уйти куда подальше, где трава посочнее. Никогда раньше со мной такого не случалось, чтобы я заснула во время своего «дежурства», а тут вдруг меня разморило. Солнце палило нещадно, а в тенечке хорошо, я и задремала. Проснулась от крика и свиста. Открыла глаза, а передо мной на прекрасном кауром скакуне паренек сидит, вроде бы цыган. Глаза блестят, волосы, черные как смоль, из-под картуза в разные стороны торчат. Кричит мне что есть силы:
– Что ж ты, дура столичная, тут развалилась, а коровы твои пшеницу топчут. Давай бегом ко мне.
Он протянул руку, чтобы подхватить меня, но я, как заправский наездник, только лишь оперлась о его сильную руку и запрыгнула на спину коня. Этот довольно сложный трюк мы с отцом разучили, чтобы подшутить над матушкой. Кстати, после демонстрации этого номера она чуть не упала в обморок от страха за меня. Паренек удивился, не ожидая от «столичной дурочки» такой ловкости, только и произнес восхищенно: «Ого-го!». Так, прижавшись друг к другу, мы проскакали с ним минут десять, не больше, пытаясь выгнать с поля дурных коров. Сами перетоптали пшеницы куда больше, чем эти безмозглые создания, но с чувством выполненного долга, выгнав их с пшеничного поля на луг, пошли рядом с лошадью. Паренек молчал. Первой разговор завела я:
– Спасибо, что разбудил. Даже не знаю, что это меня вдруг так сморило. А ты откуда взялся ? Сколько пасу коров, никогда не видела, чтобы здесь кто-то ездил.
– Да тут редко кто бывает, у Гришки-молчуна характер не приведи боже, не любит он, когда его землю чужие топчут.
– А ты, что же, не боишься ?
– Да мне страсть как захотелось на тебя посмотреть. Хлопцы говорили за тебя, что в Малатьевский приехала сиротка из самого Петрограда, что совсем не похожа она на наших девчат. Вот я и решил посмотреть.
– А откуда узнал, что я здесь коров пасу ?
– Да за это все говорят, что бедную сироту батрачить заставили. Василисе, родственнице твоей, бабы уже все косточки перемыли. Нет, говорят, у нее ни стыда, ни совести, не успела девчонку откормить как следует, как уже работать заставляет.
– Дуры твои бабы, глупости говорят, не знают они, что Василиса добрейшей души человек. Просто ничего другого я делать не умею, только коров пасти, и то вот сегодня упустила. А что же мне целыми днями на хуторе делать? Мне здесь очень даже нравится – тихо, покойно, красиво…
– А звать тебя как ?
– Наташа я. А тебя как ?
– Данила.
– А ты что такой чернявый, цыган что ли ?
– Может, и цыган, никто за меня ничего не знает. Я – подкидыш.
– Как это подкидыш ?
– Да очень просто. Нашли меня в корзинке у церкви, тетка Нюра к себе забрала. Так вот у нее и живу.
Мы еще долго проговорили с Данилой в тот день, пока не пришла мне пора гнать коров домой. Говорил он с сильным южнороссийским акцентом, нараспев, произнося букву «г» как «х», используя непривычные для моего уха предлоги. Например, «за это» вместо «про это». Но так говорили здесь почти все, кроме Кузьминичны, которая не один десяток лет прожила в столице. Парнишка был меня старше на два года, но выглядел лет на семнадцать, во всяком случае, мне так показалось. За почти два месяца, что я жила в Малатьевском, это был первый знакомый моего возраста. Все внуки у Григория Кузьмича были малолетними, не старше семи-восьми лет, а чужие на хутор почти не приезжали.
Встреча с Данилой стала самым ярким впечатлением за все время пребывания в тех краях. Как ни старалась Василиса Кузьминична скрасить мое одиночество, ей это плохо удавалось. Поэтому от тоски по матушке и Оленьке, от невероятной хуторской скуки я стала замкнутой и молчаливой. Страдала добрая женщина от этого безмерно. Она даже заказала брату, частенько отлучавшемуся с Малатьевского в соседние станицы, чтобы он привез мне все необходимое для шитья и вышивания. Дед Гриша накупил целый короб всяких ниток, иголок, пуговиц и несколько отрезов ткани. Все почему-то решили, что для меня это будет лучшим развлечением. Жена Игната Татьяна сама неплохо шила, научила меня кроить из ткани, ну а шить и обрабатывать ткань я научилась еще у Дуняши. Однако шитье не стало панацеей от ностальгии, мне все равно было в Малатьевском плохо.
Данила на прощанье попросил не говорить обо мне Кузьминичне, пообещав, что на днях непременно приедет навестить меня и моих непослушных коров. Я же не удержалась и вечером проболталась ей о происшествии. Пришлось рассказать все о Даниле. При одном только упоминании о нем бедная женщина изменилась в лице:
– Тошнехонъки-и-и, да как же это он тебя углядел, откуда прознал про то, что ты коров пасешь?
– Сказал, что все в округе про это знают, говорят, будто я батрачу на вас. Но я объяснила, что это не так. Мне очень даже нравится на луг ходить.
– Нет, теперь ни за что тебя одну не отпущу, не дай боже, антихрист этот глазастый чего дурное с тобой сделает.
– Ничего дурного он не сделает, он хороший. Без него я бы коров ни за что не собрала…
– Хороший, много ты понимаешь в людях-то. Про него знаешь, чего рассказывают, будто он колдун. Посмотрел на козу Матренину с Лопухинского хутора, она на третий день и сдохла.
– Ой, а при чем тут Данила ? Может быть, коза от болезни какой померла.
– Да с чего бы ей помирать-то, здоровая коза была. Просто Матрена на него прикрикнула, чтоб он мимо ее хаты на коне своем бешеном не носился туда-сюда. А ему, видать, не понравилось, он на нее взглянул, как молнией сверкнул. Не глаза, а уголья раскаленные. Матрена сразу почувствовала, что ей не сдобровать. Вот он хворь на козу и накликал.
Слушала я бредни про Матренину козу, а сама думала, что Даниле больше делать нечего, как козу несчастную душегубить. А вот про глаза точно Кузьминична подметила, действительно, как уголья раскаленные были, когда он меня у ручья будил.
На следующий день пасти я не пошла, отправили бедолагу Петра, меня же Татьяна за шитье усадила. Так продолжалось недели две, пока я не уговорила деда Григория вновь отпускать меня на луг. Страсти потихоньку улеглись, к тому же я перешила все, что только можно было мне поручить. Татьяна без устали нахваливала меня. Признаюсь, я даже кое-чему ее научила. Хотя Дуняша велела мне все портновские хитрости, которым она меня обучила, держать при себе. Никак не могла понять – что может быть плохого в том, что еще кто-то будет шить так же, как и ты ? Поняла это только в Париже, когда матушка стала работать в театре Елисейских полей. Вот где знания, полученные у Дуняши, оказались спасительными. Только благодаря портновским хитростям матушка смогла получить там хорошую работу. Она умела вышивать такие необычные узоры шелковыми нитями, от которых даже у придирчивых француженок глаза загорались от восторга.
Каждое утро, собираясь на работу в поле, я прихватывала лишний кусок чего-нибудь вкусненького, чтобы угостить Данилу. Все-таки сирота, наверное, недоедает. Однако Данила на лугу больше не появлялся. Я решила, что просто уже не интересна для местного населения. Посмотрели все на столичную дурочку и успокоились, ничего особенного во мне нет, вот Данила больше и не появляется. Но все было совсем не так. .
Оказалось, Данила сразу понял, что я все рассказала Кузьминичне, так как на следующий день вместо меня па лугу встретил Петра. Петруша тоже побаивался «приблудного цыгана», как все здесь называли Данилу, и как умы, так и послал его куда подальше. Мой новый друг обиделся и на меня, и па придурковатого Петра. Поэтому и не появлялся больше па лугу. В следующий раз мы уже встретились с ним зимой совсем при других обстоятельствах…
Перемена климата сыграла со мной злую шутку. Я не привыкла к тому, что в ноябре стоит роскошная теплая пора – никакого снега и мороза, солнце светит весь день, с улицы уходить не хочется. Не то, что у нас в Петрограде – в пятом часу уже темно, сыро, а иногда и морозы под двадцать. В Малатьевском в ноябре били уток, и мне приходилось выполнять несложную, но и не совсем приятную работу – перебирать утиные перья. Вернее, перья отбрасывать в один таз, а пух – в другой. Кузьминична шутила: «Это тебе на перину, в приданое». Видно, за этим занятием я и подхватила воспаление легких. Сначала болезнь проходила незаметно, я ощущала лишь легкое недомогание и потерю аппетита, а недели через две мое состояние резко ухудшилось. Меня бросало то в жар, то в холод, тело ломило, к тому же одолел сильный кашель. Дед Григорий привез фельдшера, по толку от этого было мало. Бедная Кузьминична день и ночь молилась у лампадки за ее здоровье, ночей не спала, сидя у моей постели.
Решено было отвезти меня в Лопухинский хутор на лечение к бабке-знахарке. Старушка жила в маленькой избе, закопченной и совсем не беленной известью. На стенах висели пучки сухих трав, отчего в комнате, куда меня уложили на старый колючий тулуп, стоял удивительный весенний запах. Накрыли меня какой-то овчиной. Помню я только этот запах и удивительное ощущение тепла, исходящего от овчины.
У знахарки Евдохи я пролежала несколько дней в почти бессознательном состоянии. Сквозь дремоту слышала бормотание, чувствовала запах тлеющей травы. Изредка бабка растирала меня жиром, очень неприятно пахнущим, но после этой процедуры мне становилось легче. Однажды я открыла глаза, потому что почувствовала чей-то взгляд, и увидела перед собой испуганное лицо Данилы. Он сидел рядом со мной с мокрым рушником и вытирал со лба пот.
– Ну вот, оклемалась, наконец, – сказал он с улыбкой, – вишь, как пот побежал, значит, дело на поправку пошло. Говорить-то можешь»?
– Могу, наверное, давно не пробовала, – прошептала я, – а ты чего тут сидишь?
– Зашел тебя навестить, как только Кузьминичну увезли. За ней сегодня дед Григорий приезжал, увез в бане попариться, суббота ведь. А то она с твоей болезнью сама скоро сляжет.
Данила так заботливо говорил о Кузьминичне, что мне даже стало смешно. Она его боится не меньше, чем самого черта, а он переживает о ее здоровье. Удивило меня и то, что он оказался хорошим знатоком лекарственных трав. Они с Евдохой подолгу могли говорить о тех или иных травах, даже спорили иногда, что лучше мне заварить и как принимать отвар. Замкнутая и нелюдимая Евдоха, одинокая старая женщина, с Данилой была очень приветлива, видно, жалела его, сиротинку.
Просидел Данила у моего овчинного ложа три дня, уходил только на ночь. Иногда я засыпала, и оттого, что он сидел рядом, мне было приятно и спокойно.
Несмотря на то что он был совсем мальчишкой неполных семнадцати лет, от своих сверстников Данила заметно отличался. Многое умел делать не хуже взрослого, с конем обращался, как лихой наездник, мог приготовить обед, растопить печь, даже травы лечебные знал. Его приемная мать Нюра, овдовевшая еще в русско-японскую войну да так и не вышедшая больше замуж, была не бедной, потому коня справила Данилке лихого, кормила и одевала его, не жалея денег. Однако местные так и не смогли при пять его за равного, памятуя о «корзиночном» прошлом Опять же ярко выраженная цыганская внешность отпугивала как взрослых, так и сверстников Данилы. С хуторской молодежью он общался, но друзей не имел.
Я тоже была здесь чужой, никому, кроме Кузьминичны, не нужной девчонкой. Это и сблизило нас с Данилой.
Вскоре я пошла на поправку, и меня увезли от знахарки в Малатъевский. Накануне отъезда мы условились с моим новым другом встретиться на крещенской неделе у той же бабки-знахарки. Мне нужно было найти предлог, чтобы, попасть в Лопухинский, благо, что он находился всего в трех верстах от нашего хутора. Я уговорила блаженного Петра навестить знахарку.
Пока Евдоха угощала Петра, которого по доброте душевной очень жалела, мы с Данилой сидели в сенях и делились впечатлениями. Конечно, у Данилки их было больше, чем у меня, поэтому я слушала его рассказы с открытым ртом. Он был неплохим рассказчиком, к тому же умел слушать и запоминать. Чем больше я узнавала этого человека, тем больше проникалась к нему уважением. И не только. Несмотря па свой совсем еще юный возраст, я просто влюбилась в него.
Прошла зима, за ней весна. Летом я снова стала пасти коров на все том же лугу. Только теперь каждый новый день я встречала с улыбкой. Потому что знала, что он принесет мне встречу с самым близким мне человеком.
Не буду утомлять тебя излишними деталями, скажу только что за все годы моего изгнания, время, проведенное с Данилой, стало для меня отдушиной, светлым пятном в беспросветной деревенской жизни, которую мне уготовила маменька. Своей ссылки в Малатьевский я так и не смогла ей простить…
Она надеялась, что я смогу отсидеться в забытом богом и людьми Малатьевском, не умру с голоду и не заболею от недоедания. Но в это время на Кубани начались брожения, этот благодатный край так лихорадило, что отзвуки доносились и до нашего хутора. Дон и Кубань, вместе со своим «младшим братом» Тереком, где всем заправляло казачество, не хотели признавать Советской власти. Большевиков активно поддерживала неказачья часть населения, а также дезертиры, которых было в этом краю предостаточно.
Больше всего боялись, что «красные» могут конфисковать или попросту отнять все нажитое, особенно переживали за отличных лошадей. Ведь казак без коня – уже не казак, поэтому дед Григорий с сыновьями оборудовал закрытый сарай, подальше от любопытных глаз, где в случае чего надеялся спрятать лошадей. Сарай находился километрах в двух от хутора, в лощине, у небольшой речушки, с заросшими кустарником берегами. Был он неприметным, так как летом вокруг было много зелени и кустарников, а осенью из-за распутицы сюда никто никогда не забредал. Помимо стойла для лошадей дед оборудовал небольшую комнатку с топчаном, столом и лавками, ящик для продуктов – соли, муки, спичек. В общем, дед Григорий со свойственной ему обстоятельностью все сделал на совесть, в случае чего здесь можно было пару недель прожить, никому не попадаясь на глаза.
Весной, когда наступила пора выпаса коров, я приспособилась пасти их в лощине, где находился сарайчик. Трава там была замечательная, коровам ее хватало с лихвой, они не разбредались кто куда, а, откушав изрядное количество сочной травки, тут же укладывались отдыхать. Я же, чтобы не бездельничать, принесла в «схоронку», как называл сарайчик дед Григорий, корзинку для рукоделия с нитками, иголками, выпросила у Татьяны лоскут белого полотна и стала вышивать картину. Такую, как висела в кабинете у отца – всадница на гнедом коне на фоне горящего поместья. Постепенно схоронка стала для меня самым любимым местом, вторым домом, где я была хозяйкой. Казалось, что о ее существовании все позабыли, мне это было на руку. Я каждое утро приходила сюда не как на работу, а как к себе домой, возвращаясь лишь к вечеру в Малатьевский.
Омоем добровольном уединении в схоронке довольно скоро узнал Данила и стал частенько ко мне заглядывать. Отсутствие друзей и подруг, тоска по Петербургу, чувство покинутости и заброшенности (матушка практически не присылала о себе и сестре никаких известий) сделали свое дело. Мы с ним стали очень близкими друзьями, близкими не только духом, но и телом.
Удивительно, что прошло столько лет, а я хорошо помню те весенние дни, когда мы почувствовали себя взрослыми и влюбленными друг в друга. Мне только-только исполнилось шестнадцать, Даниле было семнадцать. Наши встречи напоминали скорее ритуал – муж приходит домой, его встречает любящая жена. Я приносила с собой всякие вкусности, он – небольшие подарки для меня, схоронка заменяла нам дом. Здесь было чисто, тепло, уютно, и никого, кроме нас. Только я и Он. Каждого визита я ждала с особым трепетом и волнением, и если Данила немного задерживался, безумно расстраивалась, – а вдруг что-то случилось, вдруг не придет? Но он всегда приходил, такой же взволнованный, как и я. Так получилось, что грешницей я стала с младых ногтей. Возможно, поэтому твою мать, Марьяша, я пыталась воспитывать в строгости, чтобы с ней не произошло такого, как со мной. Но все получилось иначе. Видно, за грехи мои тайные Бог послал мне в наказание такую дочь. А потом смилостивился, пожалел и наградил меня такой славной внучкой, как ты….
Наши встречи с Данилой продолжались все лето и осень, которая в тех краях замечательная. Бархатный сезон в Сен-Тропе ничто по сравнению с тихими сентябрьскими вечерами в Малатьевском. Но в октябре пошли дожди, скотину стали держать дома, пастушка Наташа вынуждена была помогать по хозяйству. Встречи стали все более редкими, а к зиме прекратились вовсе. Несколько раз дед Григорий, завидев Данилу у околицы, грозил ему берданкой – боялся за своих коней, потому что упорно считал его цыганом и, как следствие, конокрадом. К счастью, старик и не догадывался, что Данила высматривает меня, а не его каурого любимца Бурана, которого он называл Бориской. А вот Татьяна сразу поняла, в чем дело, и сделала свои выводы…








