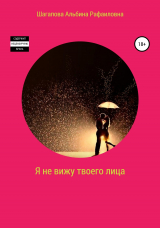
Текст книги "Я не вижу твоего лица"
Автор книги: Альбина Шагапова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– А что бабушка пускает к себе друзей своего внука?
– Нет, конечно! Лапшов приносит и видак и кассеты. Избранные, после отбоя, собираются в комнате отдыха, запираются там и смотрят, и боевики, и ужасы, и порнуху. Какой-то кошмар, скажу я тебе, все нашей элите в рот смотрят, чтобы это право заслужить, подлизываются, боятся. А ведь, по сути кто они? Быдло! И ни какая не элита.
Каждое слово Сони било по голове маленьким, но увесистым молоточком, делая меня ещё ниже, ещё ничтожнее. Как же я мало знала о жизни? Хотя, к чему себя обманывать? Я не знала о ней ничего! И вот теперь, слушая рассказ о месте, куда прибыла учиться, удивлялась и недоумевала, чувствуя себя дикарём, появившимся из далёкой отсталой африканской страны.
– А сама ты их не боишься?
– Вот ещё! Чего мне бояться? – Соня вновь чиркнула зажигалкой, и робкий рыжий огонёк осветил часть её лица. – Учимся мы в разных классах, живу я не в интернате, а у бабушки. Сюда по вечерам прихожу на фоно играть, хочу в Курское музыкальное училище поступить. Так что местные склоки и интриги меня не интересуют. Год пройдёт, и я распрощаюсь со всем этим дерьмом.
Я позавидовала этой независимой, смелой девчонке и тут же обрадовалась. Мы снова вместе, как тогда , в больнице. Сонечка, милая, моё солнце, мой такой краткий, но свежий и живительный глоток свежего воздуха! С каким же нетерпением я ждала твоего письма, как перечитывала заветные строки, касаясь выпуклых точек пальцами. Но теперь ты здесь, под этим сырым чёрным небом, под золотистыми кронами тополей, на расстоянии руки от меня. Только не исчезни, моя дорогая подруга, не окажись сном!
Словно отвечая на мои мысли, Соня заговорила. И с начала, купаясь в эйфории, прибывая мыслями в больничной палате, до меня не дошёл смысл её слов. А когда всё же её слова достигли моего сознания, я ощутила пустоту, такую чёрную, сосущую и болезненную, что невольно схватилась за живот.
– Подругами мы с тобой не станем, ты уж извини, – всё с той же беспечностью произнесла она. – Зачем привязываться к тому, с кем вскоре расстанешься? Да и видится, мы будем редко, сама понимаешь. Но если понадобится помощь, можешь обращаться.
Она ушла, постукивая своей тростью, а я так и осталась стоять вдыхая воздух, продолжавший хранить запах её сигареты. А ведь Соня, с момента нашего с ней знакомства была моей путеводной звездой. Одна лишь мысль о том, что где-то живёт весёлая рыжая девчонка, придавала мне сил, не позволяя скатиться в бездну отчаяния Засыпая, я представляла, как мы вновь встретимся, что скажем друг другу, куда направимся. А теперь у меня никого не осталось, исчезла звезда, свет которой вёл бы меня сквозь мрак. Наверное, одиночество – мой рок, моя судьба. Навсегда одна, всем чужая, никому не нужная, кроме родителей. Когда-то, такое уже происходило со мной. Первая моя подруга так же отвернулась от меня. Мы сидели с ней за одной партой, налегали на учёбу, хотели быть лучшими в классе. «Не пить, не курить и с мальчишкой не дружить» – так звучал наш девиз. Мы верили в то, что нас ждёт большое будущее, великие открытия и свершения. Мы учились, посещали кружки и купались в похвале родителей и учителей, с гордостью нося пионерский галстук. Но после того, что случилось Юлька оказалась одной из первых, кто покинул меня, просто перестала заходить. Больше не было посиделок за чаем с лепёшками и малиновым вареньем, не было шептания в моём углу за цветастой шторкой и прогулок в сквере за домом не было тоже. Другие ребята – одноклассники и дворовые товарищи по играм так же незаметно исчезли из моей жизни. И вокруг меня образовался вакуум. А потом, от меня отказались и школьные учителя.
Как-то вечером, в нашей квартирке появилась завуч Полина Дмитриевна– в общем-то, довольно неплохая тётка, спокойная, справедливая, без стервозных замашек, присущих женщинам, получившим высокую должность.
Полина вошла решительно, не стала садиться и отказалась разделить с нами ужин.
– Вот что, Татьяна, – начала она без обиняков. – Отправляй-ка свою дочь в интернат, мои девчонки ходить к ней отказываются.
– Как отказываются?! – отец вскочил с дивана, отшвырнув газету. – Да вы что, в своей школе, сдурели совсем?! Пять лет, значит, приходили к нам, учили, а тут – отказываются! Разве мы вас обидели чем? Да моя Алёнка– ангел, все задания выполняет, сама этот хренов шрифт Брайля изучила.
– А ты, Николай, не ори, – усмирила его Полина Дмитриевна.
И отец, как двадцать лет тому назад, покорно опустился на своё место.
– Вы знаете, как я к вам отношусь, – продолжала завуч. – Вас обоих выучила, и дочь вашу продолжала бы учить, коли не эта перестройка проклятая.
– Причём тут перестройка, господи! – вскрикнула мама, плюхаясь на диван рядом с отцом.
– А при том, – Полина повысила голос, как обычно она делала это в школе, ругая хулиганов и двоечников. – вот тебе, Николай, чем на ликероводочном платят? Водкой! И что ты делаешь? Едешь в областной центр, приходишь на вокзал, ждёшь поезда и продаёшь. Деньги не великие, но жить можно. А ты, Тань, когда швейную фабрику закрыли, как выкрутилась? Вынесла из цеха машинку и отрезы тканей, а теперь шьёшь на заказ, и тебе то картошки, то муки принесут. А мы– учителя ничего ни продать, ни обменять не можем. Несём разумное, светлое, вечное, потом бежим подъезды мыть да в палатках стоять штанами торговать. Вот, ей богу, нет ни у кого ни времени, ни сил на вашу Алёнку. Отправляйте в интернат, так будет правильнее. Она ведь молодая, ей общаться со сверстниками надо. Что же ей, всю жизнь оставшуюся подле вас сидеть?
В тот момент мне показалось, что на меня обрушился ливень, живой, по-весеннему юный, оздоравливающий и бодрящий. Он расколол ледяные, неповоротливые уродливые глыбы тоски и отчаяния в моей душе, растопил снега смирения. Быть как все, отвечать у доски, смеяться на переменах в кругу одноклассников, делиться секретами с лучшей подружкой, влюбиться в какого-нибудь парня и ждать от него знаков внимания. Просто жить, как живут обычные девчонки моего возраста. Живут и не понимают, насколько они счастливы. А ещё, я надеялась встретить Соню. Найти её и извиниться за то, что перестала отвечать на её письма. Рассказать, что выбора у меня не было, ведь лучше и вовсе не писать, чем зачитывать её письма родителям, а потом и ответы свои тоже зачитывать. Ведь они – родители, так много для меня сделали, и оскорблять их своим недоверием и скрытностью я просто не имею права. Какие у меня могут быть от них секреты? От тех, кто самоотверженно боролся за моё здоровье, кто отдавал ради меня всё, что у них было, кто во имя меня во всём себе отказывал? Мои мама и папа принесли себя в жертву мне, а любая жертва должна быть вознаграждена. И чем она больше, тем щедрее обязана быть награда.
Отделенная от родительского ложа цветастой шторкой, я жадно прислушивалась к шёпоту отца и матери.
– Как же я её отправлю?– едва сдерживая слезы, говорила мама. – Брошу среди чужих людей?
– Ей нужно получать образование, – в очередной раз твердил отец. – Мы не вечные.
– Да о чём ты, Коля? – голос матери срывался и становился сиплым. – Она– мой ребёнок! Только я смогу её защитить, уберечь. А если она простудится? Если порежется, если упадёт. Ты же видишь, какой я ей уход обеспечила, чай в кружку сама наливаю, мою её, на улицу вывожу. Да она со мной, как у Христа за пазухой. А там что? Кто будет так о ней заботиться?
– А помрём мы? Ей ведь дальше жить. А она, Тань, даже яичницу приготовить не в состоянии, носки свои постирать! А ведь ей скоро семнадцать. Кобыла уже!
– А кто сделал меня такой беспомощной? – пронеслось в голове.– Кто с упорством, с особым старанием взращивал во мне страхи, мелкие, бытовые, и от того, противные и постыдные?
Ножом я могла порезаться, иглой– уколоться, утюгом – обжечься. Все мои вялые попытки проявить самостоятельность оканчивались мамиными слезами и затяжной обидой дня на три.
– Ты мой ребёнок, – голос матери щедро пропитанный горечью и скорбью в такие дни звучал глухо, словно она говорила в подушку. – Не могу понять, почему тебе так противна моя забота? Неужели я не достойна твоей любви? Что мне ещё сделать для тебя?
Слово «ещё» звучало ершисто и неприятно кололо куда-то под диафрагму. А мутная густая, будто болотная жижа, скорбь материнского голоса, душила и нагоняла такую тоску, безысходность и отвращение к себе – неблагодарной твари, что хотелось плакать и умолять о прощении. Так я и делала. И меня прощали, предварительно прочитав лекцию о долге родителя и долге ребёнка.
– Она – больной ребёнок! – вскрикнула мать, больше не боясь меня разбудить. И было в этом крике что-то безумное, отчаянное. – Она без меня не сможет.
Лежать и покорно ожидать своей участи с каждой секундой становилось невыносимо. Мать вполне могла убедить отца, она всегда это делала. С начала увещевала, потом кричала, ну а после в бой вступала тяжёлая артиллерия – мамины слёзы, пред которыми отец объявлял о полной капитуляции. Нет, нужно было срочно брать инициативу в свои руки.
– А я хочу в интернат, – заявила я, отодвигая шторку. – Прекратите считать меня своим домашним питомцем! Я – человек, и как любому человеку мне необходимо общение, нормальное образование. Мне хочется жить, а не существовать!
Сказала и тут же похолодела от страха и накатившего чувства вины, сырого, липкого, словно подвальный воздух.
– Коля! – мать перешла на ультразвук, а сосед возмущённо застучал по стене, призывая к порядку. – Ты слышишь, что она говорит? Ей с нами плохо, она не живёт, а существует! Да сколько я слёз пролила, сколько больниц объездила, да мы все деньги на твоё лечение отдаём, чтобы ты в конец не ослепла. И на тебе – благодарность!
Рыдания отчаянные, напоминающие скрежет ржавых пружин заглушило дробь дождя по крыше, и монотонную болтовню соседского телевизора, и шум листвы, потревоженной ветром.
Сердце упало в живот и болезненно там запульсировало. Господи, да что такое на меня нашло? Как я посмела сказать такое родителям – самым близким, самым дорогим людям. Да не нужна мне эта школа, к дьяволу доску, перемены, подруг.
– До чего ты мать довела, тварь неблагодарная! – отец соскочил с дивана, тот жалобно всхлипнул. Отцовская грозная фигура нависла надо мной, и во тьме напомнила могильный крест, кривой, наспех сколоченный, почерневший от сырости и оттого – зловещий.
– Безжалостное чудовище! Да ты без нас сдохнешь! – заскрипел он. И в этом скрипе старого дерева, слышалось всё раздражение, всё отвращение и разочарование, накопленное за эти годы.
Мне стало страшно, и я забилась в угол. Отец приближался, неумолимо, стремительно. Я молчала, ожидая заслуженной кары. Чувство вины перед матерью нестерпимо жгло. Какой же гадкой и жалкой я ощущала себя в тот момент! Мне хотелось кинуться к матери, попросить прощения, почувствовать на своём затылке тепло её руки. Но как обойти отца? Да и как это всегда бывало со мной в страшные моменты моей жизни, тело моё отказалось двигаться. Любил ли меня отец? Дать однозначный ответ на этот вопрос я всегда затруднялась. Наверное, всё же любил когда-то, когда мои глаза были здоровы, когда я не причиняла родителям столько проблем. Может, отцу хотелось мной гордиться, может, он ждал от меня достижений и свершений, но после того, что случилось, поставил на мне жирный крест. Он чувствовал себя разочарованным, обманутым, и оттого, любое моё слово, любое действие вызывало в родителе раздражение.
– Она растёт эгоисткой. – возмущённо произносил он, если я, набравшись смелости, решалась о чём– то попросить. – Никак не хочет понять, что мы едва сводим концы с концами.
Мне тут же становилось неловко, я густо краснела, ведь родители и без того, так много для меня делают.
– Она испорчена, – как-то заявил отец, когда я заказала ему привести из библиотеки какой-нибудь любовный роман, и тут же принялся утишать мать, уверять её в том, что она не в чём не виновата, просто их ребёнок оказался с червоточиной, ведь в семье не без урода.
Я занимала много места, на меня уходило много денег, я громко разговаривала и много ела. Меня было слишком много в его жизни. В их с матерью жизни.
Отец читал долгие и нудные нравоучения, мать защищала и зацеловывала. Отец проявлял недовольство каждым моим шагом, мать – называла больным ребёнком и жалела, стараясь всё сделать за меня. Отец сравнивал с детьми своих коллег и друзей, мать – плакала и говорила, что будет нести свой крест до конца. Они бурно ссорились по поводу моего воспитания, а потом, где-то недели на две в квартире воцарялась тягостная обстановка. Как же это ужасно, как тяжело быть центром чьей-то вселенной! Ты не ощущаешь себя личностью с собственными желаниями, мечтами, тайнами. Ты– причина, ты– повод, ты– объект удушающей родительской любви, на грани безумия.
Все разговоры, все перепалки, все планы моих родителей крутились вокруг меня и моего лечения. Казалось, что кроме моей персоны обсудить им было нечего. Порой, мне думалось, что и живут они рядом друг с другом только ради меня. В их отношениях не было нежности, романтики. Мама и папа, словно бы стыдились проявления чувств друг к другу. Держались холодно, отстранённо, словно коллеги по работе, объединённые лишь общим делом. Свой старенький всхлипывающий диван делили стыдясь присутствия друг друга. Мать перед сном натягивала длинную плотную ночнушку, с завязками у горла. Отец облачался в пижаму. По тому, когда Соня познакомила меня с любовными романами, я была удивлена и напугана. И мысль о том, что делаю нечто нехорошее, слушая о любви Катрин и Арно, преследовала, будоражила и мучила чувством вины перед родителями.
Хлёсткая пощёчина обожгла левую сторону лица. Перед глазами вспыхнули жёлтые звёзды. Мои зубы клацнули, прикусив кончик языка. Во рту разлился солоноватый вкус крови.
– Ты поедешь в свой интернат, раз тебе так хочется, – прошипел отец, и шёпот его был так же чёрен, как и ночная мгла, наполнявшая нашу комнату. – Но не смей ныть и жаловаться.
Ночь. Розоватый свет уличного фонаря растекается по заплаканным оконным стёклам, отражается на полированной дверце большого шкафа, размазывается по белому постельному белью, стоящих в два ряда кроватей. В воздухе стойко застыл запах кишечных газов, несвежего белья и женских дней. Сопение, храп и бессвязное бормотание. Мучительно хочется спать, погрузиться в спасительное небытиё, чёрное, мягкое, словно бархат. Но стоит забыться, как всё тело вздрагивает, будто от толчка, и я вновь выныриваю на поверхность, в отвратительную, ненавистную реальность. А в голове набатом звучат слова Ленуси:
– Спи спокойно, Рейтуза, так уж и быть. Но с завтрашнего дня у тебя начнётся весёленькая жизнь. Правильно говорю, бабцы?
–Позвонить отцу, завтра же! Всё, хватит с меня самостоятельности, наигралась! – твержу себе, немного успокаиваясь, но потом вспоминаю, насколько трудно будет это сделать. Пока я объясню, кто я такая и по какой причине звоню, пока разыщут отца, пока он дойдёт из своего цеха, пройдёт целая вечность. А висеть на телефоне мне никто не позволит. Восьмёрка– удовольствие дорогое.
Подушка кажется твёрдой и неудобной, воздух непригодным для дыхания, а завтрашний день … Ох! Лучше бы он вообще не наступал!
Глава 2
Гривы золотых клёнов и тополей, облитые густым предзакатным солнечным светом, бесстыдно и нагло полыхали на фоне ослепительно– синего неба. Осень, празднично-нарядная, пропахшая горечью увядающей растительности, дымом костров и вечерней свежестью, щедро дарила прощальное тепло, вызывая в моей душе жгучую злобу.
Наглухо заколоченные оконные рамы не пропускали ни одной струйки свежего воздуха. И если все обитатели интерната ловили открытыми частями тела ласковые, прощальные поцелуи солнца, вдыхали горьковатый осенний дух, шуршали подошвами по ковру из золотых монет, мне приходилось елозить грязной, воняющей плесенью тряпкой по щелястому деревянному полу. Руки сводило от холода, горячей воды в интернате не было.
Кровати, тумбочки, стулья и столы. Чтобы вымыть под ними пол, приходилось ложиться на живот, пачкая в пыли одежду. К пальцам липли чьи-то волосы, пару раз, я угодила ладонью в зловонную липкую лужу. Болела спина, плечи и голова. Хотелось просто лечь и забыться. А ведь кроме мытья пола мне предстояло протереть подоконники, выбить длиннющий палас и заправить кровати. Время неумолимо утекало, а я ни на йоту не продвинулась в наведении порядка в этой проклятой комнатушке. Пол, сколько я не елозила тряпицей по деревяшкам, оставался таким же пыльным и липким, скатанный в рулон, на метр выше меня, палас, терпеливо дожидался своей очереди. Десять кроватей, развороченные, уродливые в своём беспорядке, угрожающе серели в весёлой желтизне осеннего дня, щедро сочившегося сквозь мутные оконные стёкла.
Отчаяние подкрадывалось постепенно, холодной скользкой лапой сжимая сердце, щекоча кишечник.
– Не успеешь, – хлюпала тряпка ложась на пол.
Я и сама это уже знала, но продолжала остервенело надраивать, не обращая внимания на летящие в лицо грязные брызги, на ломоту в суставах, на переполненный мочевой пузырь.
С правилами дежурства по спальне меня ознакомили утром. Краснуха объяснила, что дежурный, получивший оценку комиссии ниже пятёрки, моет полы и выбивает палас и на следующий день. И так будет продолжаться до тех пор, пока жертва плесневелой тряпки и пыльного ковра не получит заветную пятёрку.
Перевернуть матрасы, вытащить подушки из наволочек и одеяла из пододеяльников была инициатива Надюхи – белокурой грудастой девахи.
– Ленусь, мне очень не нравится, как наша Рейтуза заправляет кровать. Думаю, её нужно научить, – елейно пропела она в тот момент, когда обитательницы спальни собирались на прогулку, а я с трудом затаскивала жестяное ведро, до отказу наполненное ледяной водой. Заполнить ведро так, чтобы вода переливалась за края, велела мне староста нашей спальни– всё та же великая и ужасная Ленуся.
– А это идея, – весело поддержала староста. – Вы согласны, бабцы?
Бабцам предложение Ленуси пришлось по душе. Наверняка, каждая из девушек радовалась, что немилость старосты пала не на неё. Да и смотреть на то, как унижают другого, крайне занятно и приятно, так как человек– существо жестокое. Ему доставляет удовольствие наблюдать за мучениями ближнего, ведь в это время он ощущает своё превосходство.
Ленуся и Надюха, в ту же секунду, бросились выполнять свой план, самозабвенно перекручивать простыни, переворачивать матрасы, засовывать полотенца в наволочки.
Ощущение беспомощности давило на меня тяжёлой плитой. Я сжимала жирную ручку ведра, будто этот, протёртый множеством рук кусок железа, мог мне помочь. Спорить и ругаться было бесполезно, я знала это точно. Их много, а я – одна, маленькая, слабая, беззащитная, не привыкшая к жестокости и насмешкам. Отец покрикивал на меня, придирался, но ведь рядом всегда находилась мама, которая утишала и защищала, называя кровиночкой и бедным больным ребёнком.
От этих воспоминаний на душе стало ещё гаже. Жалкое, никчемное существо, неспособное себя защитить.
Пахло недавним обедом – тушёной капустой. Во рту так же присутствовал кисловатый привкус, и жгло в желудке. Если вчера меня тошнило от одного только запаха еды, то сегодня мой желудочно-кишечный тракт бунтовал , бурлил, ныл и горел изнутри, требуя пищи.
Звонок резкий, словно раздражённый, разрывает тишину. Всё! Не успела! Палас так и остался не выбитым, да и как бы мне это удалось, поди, спусти эдакую бандуру со второго на первый этаж, да вынеси её на улицу. Не заправленными остались и кровати. Плевать! Больше не могу! Руки уже не ноют, они ревут от холода, в пояснице стреляет, а в голове бьют колокола. Встаю с пола, иду к ведру, чтобы до прихода комиссии вылить грязную воду. Нога скользит на чём-то маленьком и я падаю. Ведро выпадает из руки, переворачивается, на полу образовывается лужа. Чувствую, как моя кофта становится мокрой, как липнет к коже ткань. Лежу в луже, устало и обречённо смотрю в потолок, будь что будет.
После второго звонка открылась дверь и у входа в комнату выстроились три квадрата, красный, в котором я сразу узнала Наталью Георгиевну, белый – школьный медработник и коричневый – завуч.
– А ну, встань! – рявкнула Краснуха.
Я попыталась встать, но вновь упала. Нога опять наступила на странное нечто. Потянулась к нему и подняла чей-то носок. Чёрт! Как же это отвратительно плохо видеть. Если бы не он.… Ну да ладно, что теперь об этом говорить?
– Да уж, Наталья Георгиевна, приучение детей к труду у вас, как я погляжу, проходит успешно, – проскрипел коричневый квадрат, с кислинкой ехидства в голосе.
– Ольга Валентиновна, – зато в грубом, деревенско – развязно говоре Краснухи проступили капельки приторного мёда. – Эта девочка была, до сей поры, на индивидуальном обучении, за неё всё делала мать, даже мыла, даже трусики стирала. Представляете? Вот и приходится биться…
– Заметно, – усмехнулся белый квадрат с обманчивой весёлостью. Голосок медика был тонким и звонким, как весенняя капель, но нотки отстранённой прохладцы не оставляли никаких сомнений в том, что происходящее её ни чуть не веселит, и даже раздражает. – Единица, однозначно единица.
– Даю установку, – провозгласила завуч. – Обучить новенькую всему за неделю. Вы меня поняли, Наталья Георгиевна, Макаренко вы наш доморощенный.
Коричневый и белый квадрат исчезли, а Краснуха подскочила ко мне.
К тому времени я уже поднялась на ноги и стояла мокрая, растрёпанная, теребя в руках чужой носок.
По телу волнами пробегала гадкая дрожь. Краснуха приблизила ко мне своё лицо, багровое, блестящее от пота, крупным носом и кустистыми бровями.
– Немедленно в класс, на самоподготовку, – процедила она сквозь зубы, несколько капель слюны упало мне на щёку, но я не решилась смахнуть их рукой, дабы не прогневить грозную воспитательницу ещё больше.
Огромная ручища ухватила меня за шиворот и потащила в коридор.
– Мне нужно сменить одежду, – пискнула я, на что Краснуха злорадно осклабилась.
– Ну, уж нет, – пропела она. – Пусть все посмотрят на тебя, такую мокрую и грязную. Весь вечер у меня будешь так ходить, дорогуша.
Грифели с хрустом протыкали ватман, шуршали страницы учебников. Муха, случайно залетевшая в окно раздражённо жужжа, просилась на волю. Мне тоже хотелось на волю, прочь от духоты, от насмешливых шепотков, от внимания Натальи Георгиевны, от грозящей мне вечерней расправы. В том, что она состоится, я даже не сомневалась. Не даром Краснуха о чём-то долго шепталась с Ленусей и Надюхой, а те, гаденько хихикали.
Задача не решалась, да и до математики ли мне было? Ой нет, не могу! Цифры смешиваются, забываются, условие кажется сумбурным. Строители, бетонные блоки. Тьфу! Тоска зелёная! Лучше литературу почитать. Итак, Александр Сергеевич Грибоедов «Горе от ума».
Но и метания Чадского, и любовные переживания Сони казались глупыми, высосанными из пальца по сравнению с моими бедами. Их-то никто не заставляет наводить порядок в комнате, где проживает десять человек и сидеть в мокрой и грязной одежде.
– Давид Львович приехал, – шепнула Надюха своей подружке.
Их спины закрывали меня от взгляда Краснухи, и я была этому рада, хоть какая-то польза от этих девиц.
– А он уезжал?– голос Ленуси представлялся мне чёрным, шершавым, словно наждак. – Где он шлялся-то?
– Домой к себе уезжал, – в голоске Надюхи мне слышалось шуршание полиэтилена, к тому же она немножко пришепётывала. – У него мать умерла, отец у Давида больной, старый уже. Вот наш псих и ездил с похоронами помочь, ну и с матерью попрощаться, конечно.
– А ты, я смотрю, уже с ним и пообщаться успела?
– А то, – полиэтилен зашуршал чуть нежнее. – Я его о походе для девятиклассников спросила, мол нельзя традиции нарушать. И он сказал, что на этих выходных пойдём. Мне показалось, что он по мне соскучился. Представляешь, Давидка мне на плечо руку положил. Ведь это что-то значит, правда значит, а, Ленусь?
– Не хрена это не значит, – наждак стал ещё грубее. – Вот если он трахнет тебя во время привала – другое дело. Вот мы с Егоркой планируем все встречные кустики опробовать.
– Счастливая ты, – вздохнула Надюха, и девицы замолчали.
Я поёжилась от накатившего омерзения. Как можно всерьёз желать этого? Неужели кто-то по доброй воле способен позволить делать со своим телом такое? Но ведь в романах пишут и в сериалах показывают. И кому в таком случаи верить, родителям – самым близким людям и желающим мне только добра, или незнакомым сценаристам и писателям? Стоп! Не надо об этом думать, лучше сосредоточусь на учёбе, а то, чего доброго, двойку завтра получу.
Книги, напечатанные шрифтом Брайля, объёмные, занимают почти половину школьной парты. Такую книжку не сунешь в портфель, не спрячешь за пазухой, не перелистнёшь небрежно страничку, послюнив палец. Если руки читающего коротки, да и сам он не велик ростом, то чтобы прочесть верхние строчки, приходится привставать.
Перипетии в доме Фамусовых уступили место совершенно посторонним думам, никак к учёбе не относящимся. Я, не улавливая смысла, водила руками по выбитым на ватмане точкам, а в голове мусорной кучей пестрели обрывки мыслей. С начала я представила сплетённые в зарослях пожелтевшего кустарника тела, шуршание палой листвы и терпкий, густой дух сосновых игл. Наверное, лежать на голой земле неприятно. Листья прилипают к ягодицам и спине, иголки и мелкие веточки впиваются в кожу. Нет, я бы так не хотела. А как бы я хотела? Наверное, в спальне, на свежих простынях и огромной кровати, выпив предварительно бокал красного вина. А с кем? Ну, уж точно не с интернатскими пацанами, воняющими потом, нестиранными носками и табаком. Тьфу! Да о чём это я? Если бы родители узнали, о какой гадости я думаю, то меня бы, как пить дать, ожидало наказание, многочасовая лекция о нравственности, прочитанная отцом и мамины слёзы.
Однажды я, так как не могла самостоятельно оценить свою внешность, спросила у матери:
– Какие цвета мне идут больше яркие или приглушённые?
Вопрос был невинным, девственным, как свежевыпавший снег, но отец нашёл в нём зачатки испорченности.
В тот день мы сидели за столом, хлебая рисово-лучный суп, от запаха которого уже начинало мутить. Но наша семья его ела, ведь есть больше было нечего. Полки магазинов пустовали, но даже если бы они и ломились под тяжестью всевозможных деликатесов, то денег в любом случаи хватило бы лишь на рис, лук да буханку хлеба. Рис проскальзывал по горлу, оставляя после себя жирноватое послевкусие, лук и вовсе не желал проталкиваться, вернее, мой организм напрочь отвергал крупные, липкие пласты полусгнившего овоща. И ему– организму было непонятно, почему хозяйка над ним продолжает издеваться? Я же, отважно глотала опостылевшее варево, стараясь не морщиться, иначе отец обвинил бы меня в эгоизме и гордыне.
– Я не олигарх, чтобы кормить тебя чёрной икрой и лососиной! – взвился бы он. – Ты знаешь, тварь неблагодарная, как зарабатываются деньги?!
И мне бы в очередной раз пришлось выслушать историю, как отец, однажды, пошёл на вокзал, чтобы по обыкновению продать полученную на заводе водку, а до него докопались местные бандиты. О том, как отец рискует жизнью ради нас с матерью, о том, что мать целыми днями строчит на машинки, а я лишь потребляю и постоянно что-то требую. Справедливости ради, нужно уточнить, что я никогда ничего не требовала. Да и, если честно, мне ничего не было нужно. Наряды? Куда их носить? Книги? Их мне привозил отец из областного центра. Сладостей? Стали бы мои практичные родители тратить деньги на ерунду? К тому же сахар – белая смерть. Хотя сладостей мне, конечно же, хотелось. Телеэкран во всю кричал о батончиках, набитых фундуком, жевательной резинке, делающей дыхание свежим словно морской бриз, и о шоколаде, дарящем райское наслаждение.
– Ты только послушай, что она несёт! – воскликнул отец, швыряя ложку в недоеденный суп. Брызги варева разлетелись в разные стороны. – Чем забиты её мозги! Она думает о тряпках, вместо того, чтобы работать над своим внутренним миром, развиваться духовно.
– Детка, – мягко вступила мама, пытаясь своим вкрадчивым тоном успокоить отца, остановить шквал его эмоций. – Это неправильные мысли. Ты должна думать о более высоком. Мы с папой хотим, чтобы ты росла умненькой и культурной девочкой.
В душе всколыхнулось негодование, припылённое едкой горечью.
Я– инвалид, жалкое ничтожество, за которое уже давно решили, как ему жить, о чём думать и о чём мечтать.
– А зачем?– я постаралась придать своему голосу как можно больше сарказма, но получилось горько, почти обреченно. – Чтобы вас порадовать? Чтобы ходить с вами к вашим знакомым и демонстрировать свои познания, встав на стульчик?
Чувство вины, а вместе с ним и чувство самосохранения безответственно сбежали, не дав мне подумать о последствии моих высказываний.
Рабоче-крестьянский кулак папеньки ударил по столу. Жалобно звякнули тарелки и ложки, суп выплеснулся на скатерть и по капельке стекал на пол, ударяясь о линолеум.
Топ-топ, топ-топ, топ-топ.
– Неблагодарный ребёнок! С жиру бесишься! С нами ей плохо, видите ли, претят знакомые наши! А кого ты радовать хочешь, если не нас? Мужиков?
О мужчинах, в свои двенадцать лет я даже не мечтала. Мечтала о подруге, о прогулках с ней в парке, а ещё о собаке, большой и волосатой. Но родители были другого мнения.
– Детка, – увещевала мама. – Твоя душа– это чистый кристаллик, Пусть он останется незамутнённым. Все эти шмотки – пыль, мишура, главное– твой внутренний мир.
– Это был простой вопрос, причём тут мужики? Мне просто стало интересно,– орала я. Обида грызла изнутри, в носу уже начинало противно щипать от подступающих слёз.
Да с такими родителями и монастыря не надо, осталось только постричься и рясу надеть.
– Забудь о мужиках, испорченная девчонка! – грохотал отец. – Посмотри на свою рожу, ты же в шрамах вся, а ещё – слепа, словно курица! Ты ничего не умеешь, ни на что не способна, от горшка два вершка и худая, будто скелет! Только мы – родители терпим тебя рядом, оттого что любим и готовы нести крест свой до конца жизней.
– Милая, – вклинивалась мама, нарочито ласково, нарочито спокойно,– Тебе не нужно было говорить таких слов. Когда в Москве потребовали больше денег, что мы могли предложить, а привезенную водку на моих глазах выбросили в мусорную корзину, я поехала в ближайший пункт переливания крови и сдала кровь, чтобы получить деньги. Всё ради тебя, детка. И неужели тебе так трудно быть такой, какой мы хотим тебя видеть?
В лицо бросилась удушливая краска, в ушах зазвенела, и я сквозь этот мерзкий звон, едва слыша свой голос, пролепетала слова извинения и пообещала, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах не стану задавать такие вопросы.








