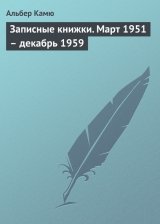
Текст книги "Записные книжки. Март 1951 — декабрь 1959"
Автор книги: Альбер Камю
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
15 февраля 1953 г.
Дорогой П. Б.
Начну с извинений за пятницу. Это не была лекция о Голландии, просто в последний момент меня мобилизовали надписывать книги, чтобы собрать деньги для этих беженцев. Подобное занятие для меня внове, и я не счел возможным отказаться, полагая, что вы меня простите за то, что все получилось так некстати. Однако вопрос не в этом, а в том, что, как вы говорите, трудно стало общаться. Мои соображения на сей счет можно выразить очень просто: если бы вы хоть на четверть были знакомы с моей жизнью и ее обязательствами, вы не написали бы ни единой строки из вашего письма. Но вы ее не знаете, а мне невозможно, да и не подобает объяснять ее для вас. «Высокомерное одиночество», на которое вы жалуетесь вслед за многими другими, из коих отнюдь не все вам ровня, явилось бы в самом деле, буде оно имелось, благословением для меня. Но райское это состояние приписывается мне несправедливо. Правда же заключается в том, что каждый час для работы я просто-таки отвоевываю у времени и у окружающих меня людей, хотя, как правило, безуспешно. Я ни на что не жалуюсь. Моя жизнь такова, какой я сам ее сделал, и сам же я в первую очередь несу ответственность за такой ее ритм и беспорядочность. Но все же когда я получаю письмо, подобное вашему, тогда да, хочется кому-нибудь пожаловаться или, по крайней мере, попросить не торопиться с обличениями. Чтобы везде успеть, мне понадобилось бы сегодня три жизни и в придачу несколько сердец. У меня есть одно-единственное, и судить о нем можно по-разному – я сам часто бываю о нем не слишком высокого мнения. Я физически не располагаю временем, а тем более внутренней независимостью, чтобы видеться с друзьями так часто, как бы мне того хотелось (спросите-ка у Шара, которого я люблю, как брата родного, сколько раз в месяц мы с ним видимся). У меня нет времени, чтобы писать статьи в журналы ни о Тунисе, ни о Ясперсе – даже затем, чтобы лишить Сартра еще одного аргумента. Хотите – верьте, хотите – нет, но у меня нет ни времени, ни внутренней независимости даже для того, чтобы просто поболеть. Стоит мне заболеть, как все начинает идти наперекосяк, и потом требуется несколько недель, чтобы жизнь вошла в обычную колею. Однако серьезнее всего то, что у меня больше нет ни времени, ни внутренней возможности писать книги, и приходится тратить четыре года на то, что при свободной жизни я сделал бы за год-два. Вообще за последние годы писания мои не столько освобождали меня, сколько порабощали. И если я продолжаю этим делом заниматься, то лишь потому, что не могу иначе, ибо предпочитаю его всему на свете, даже свободе, даже великой мудрости или богатству мысли и даже – это так, – даже дружбе. Я, правда, пытаюсь по-всякому сам себя организовать, тяну за двоих и увеличиваю «охват» благодаря определенному расписанию, четкому распорядку каждого дня, все большей отдаче. Надеюсь, когда-нибудь меня хватит на все. Пока же я явно не справляюсь: каждое письмо оборачивается еще тремя, каждый новый человек тянет за собой еще десятерых, после каждой книги – сотня писем и еще два десятка корреспондентов, а жизнь тем временем продолжается, остаются и работа, и те, кого я люблю, и те, кому я нужен. Жизнь идет, а я иной раз проснусь, и от всего этого шума, от необходимости продолжать работу, которой конца не видно, от безумного этого мира, который обступает вас со всех сторон, стоит только взять утром газету, наконец, от уверенности, что я все равно не справлюсь и всех разочарую, – мне хочется просто сесть и сидеть так до вечера. Такое вот желание, и я иногда ему уступаю.
Сможете ли вы понять все это, Б.? Разумеется, вы вполне заслуживаете, чтобы вас уважали и с вами общались. Разумеется, ваши друзья ничем не хуже моих (которые вовсе не такие уж менторы, какими вы их считаете). Хотя мне с трудом верится (и это отнюдь не поза), что мое уважение может представлять для кого-то ценность, можете не сомневаться, что вы его имеете. Но чтобы это уважение переросло в активную дружбу, как раз и требуется приличный запас свободного времени, продолжительное общение. Я встречался со многими замечательными людьми, в этом смысле мне повезло в жизни. Но иметь стольких друзей просто невозможно, и в этом моя беда: я знаю, что обречен многим приносить разочарование. Понимаю, что людям от этого очень тяжко, мне и самому тяжко. Но так уж сложилось, и если я такой кого-то не устраиваю, что ж, пусть оставит меня в одиночестве, которое, как видите, не такое уж и высокомерное, как вы о нем выразились.
Во всяком случае, на ваши горькие слова я отвечаю без горечи. Письма, подобные вашему, приходящие от таких людей, как вы, только лишний раз меня расстраивают и добавляют лишний довод в пользу решения бежать из этого города и той жизни, которую я здесь веду. Пока что, хотя это самое заветное мое желание, оно неисполнимо. Значит, придется продолжать это странное существование и к тому же считаться с назначенной вами ценой, на мой взгляд, несколько завышенной, которую мне надлежит заплатить за то, что я позволил прижать себя к стенке.
Как бы то ни было, прошу простить меня за то, что разочаровал вас, и принять уверения в моем неизменном к вам уважении.
Немезида. Любовь может и убить, причем только ради себя же самой. Имеется даже некая грань, за которой любовь к одному человеку влечет за собой убийство остальных. В некотором смысле любовь предполагает одновременно личную вину. Которую к тому же не переложишь на другого. И которая тем тяжелее, чем явственней полное отсутствие разумного алиби. Приходится в одиночку решать, любишь ты или нет, и в одиночку же отвечать за непредсказуемые последствия настоящей любви. Этому чреватому риском одиночеству человек обычно предпочитает не слишком пылкое сердце вкупе с набором моральных принципов. Он боится сам себя и ради самого же себя. Он хочет уберечь себя, отказываясь при этом от своего предназначения. И главнейшей его заботой становится поиск оправдания, которое облегчило бы хоть немного бремя его вины. Раз уж этой вины не избежать, пусть, по крайней мере, она не лежит на тебе одном. Рядовой член партии.
Половое влечение: странное, какое-то чужое, словно бы само по себе; всегда самочинно решает, когда ему вдруг пробудиться, и тогда неудержимо остается лишь слепо следовать за ним; или вдруг, после нескольких лет буйства и в ожидании новых лет разгула чувств, замкнется в себе и замрет; процветает в привычном, нетерпеливо ждет чего-то нового и отказывается от своей независимости лишь в тот момент, когда ты соглашаешься ублажить его раз навсегда. Кто из людей, в ком есть хоть крупица гордости, по своей охоте подчинился бы такой тирании? О целомудрие, ты – свобода!
Единственное оправдание, которое я нашел для своей жизни, – это мои муки творчества. Почти во всем остальном я банкрот. Если же и это меня не оправдывает, то на отпущение грехов нечего и рассчитывать.
Мы терпим сами себя благодаря телу – его красоте. Однако тело стареет. А когда красота уходит, остаются одни лишь причуды психики: они сталкиваются, и нет между ними посредника.
Письмо от Грина. Каждый раз, когда мне говорят, что восхищаются мною как человеком, у меня такое чувство, будто я всю свою жизнь лгал.
Для некоторых людей требуется больше храбрости, чтобы ввязаться в уличную драку, чем рвануться в атаку на передовой. Тяжелее всего поднять на человека руку и особенно ощутить на себе чужую ненависть.
Лопе де Вега пять или шесть раз становился вдовцом. Сейчас умирают реже. В итоге отпадает необходимость сохранять в себе силу возобновления любви; наоборот, ее всячески угнетают, чтобы дать проявиться совсем другой силе – бесконечного приспособления.
Забота о долге потому ослабевает, что все меньше и меньше остается прав. Кто непреклонен в том, что касается его прав, обладает и более сильным чувством долга.
Нигилизм. Лоботрясы несчастные, любители уравниловки и препирательств по пустякам. Готовы размышлять обо всем на свете, но лишь для того, чтобы все отвергнуть; не имеют никаких чувств, полностью полагаясь в этом на других – на партию или вождя.
Порядочность ненавидеть нельзя. Но бесконечные рассуждения о порядочности – можно. Ни в чьих устах они не могут быть уместны и менее всего в моих. А потому всякий раз, когда кто-то вылезает с разглагольствованиями о моей честности (заявление Руа), меня начинает колотить внутренняя дрожь.
«Дон Жуан»: вершина всех искусств. Заканчиваешь его слушать и словно совершил кругосветное путешествие и узнал всех людей.
Сосредоточен, никаких посторонних мыслей – Я прошу лишь об одном, прошу нижайше, хотя понимаю, что речь идет о чем-то непомерном: чтобы меня читали внимательно.
Роман. Ревность. «Я внимательно следил за своим воображением, не позволяя ему особенно разгуливаться. Держал на привязи».
Супружеская измена влечет за собой состояние обвиняемого по отношению к тому или к той, кому изменил. Вот только приговора нет. Или, точнее, приговор есть, и притом страшный: быть «вечным обвиняемым».
Начиная с Колумба, горизонтальная цивилизация пространства и количества приходит на место вертикальной цивилизации качества. Колумб убил средиземноморскую цивилизацию.
Без традиции у художника возникает иллюзия, что он сам создает правила. Вот он и Бог.
С некоторыми людьми мы строим отношения на правде. С другими – на лжи. И эти последние не менее прочны.
В психиатрической лечебнице Бродмур, где содержатся сошедшие с ума преступники, случаются кровавые драки из-за пустой баночки из-под аспирина.
Одна из задумок в театре (в том же Бродмуре): когда на сцену выходит злодей, появляется плакат: «Освистывать». Когда герой: «Хлопать».
Писать естественно. Публиковать естественно и расплачиваться за все это – естественно.
Критика по отношению к творцу – то же, что торговец по отношению к производителю. В эпоху коммерции уже стало не продохнуть от этих комментаторов, посредников между производителем и публикой. И дело отнюдь не в том, что стало меньше творцов, а просто развелось слишком много комментаторов, которые топят ускользающую золотую рыбку в какой-то илистой жиже.
Любовь и Париж. Алжир. «Мы не умели любить».
То же. Детство в бедности. Жизнь без любви (но не без удовольствий). От матери ждать любви бесполезно. С той поры самым долгим делом на свете становится обучение любви.
Двое встречаются взглядами – и только (скажем, кассирша и покупатель). При первом же удобном случае бросаются друг другу в объятия. Что говорит он? «У тебя есть время?» Что говорит она, что отвечает?
«Я скажу потом, что мне срочно нужно было уйти».
Прогресс заключается в оптимальном равновесии двух тождественных сил. Он сознает свои границы и подчиняет все высшему благу. А вовсе не в виде вертикальной стрелы, что предполагало бы его безграничность.
Человек, живущий полноценной жизнью, отказывается от многих предложений. Затем, по той же причине, он забывает о том, что кому-то отказал. Однако предложения эти делали люди, чью жизнь не назовешь полноценной, вследствие чего они и помнят обо всем. Тот первый вдруг обнаруживает, что окружен врагами, и немало этим удивлен. Точно так же почти все художники считали, что их преследуют. Вовсе нет, им так платили за их отказ и проучивали за несметное их богатство. Тут нет никакой несправедливости.
То, что наши левые коллаборационисты одобряют, о чем умалчивают либо считают неизбежным, все подряд:
1) Депортация десятков тысяч греческих детей.
2) Физическое уничтожение русского крестьянства.
3) Миллионы заключенных в лагерях.
4) Исчезновение людей по политическим мотивам.
5) Чуть ли не ежедневные политические казни за «железным занавесом».
6) Антисемитизм.
7) Глупость.
8) Жестокость.
Список далеко не полный. Но для меня и этого достаточно.
Октябрь 53 г.
Ничего не скажешь, достойная профессия, при которой приходится покорно сносить оскорбления от какого-нибудь литературного или партийного холуя! В иные времена, о которых сейчас говорят как об упадочных, человек по крайней мере сохранял за собой право вызвать обидчика, не рискуя показаться смешным, и убить его. Глупость, разумеется, но благодаря ей оскорблять было не так уж безопасно.
Есть люди, чья религия состоит в том, что они прощают нанесенные обиды, но никогда их не забывают. Я же не настолько благородного покроя, чтобы простить обиду; но забываю ее всегда.
Те, кто вскормлен одновременно и Достоевским, и Толстым, кто одинаково хорошо понимает их обоих, не испытывая затруднений, суть неизменно натуры опасные как для самих себя, так и для окружающих.
На другой день после великих исторических кризисов чувствуешь себя таким же разбитым и в паршивом настроении, как и наутро с перепоя. Вот только нет такого аспирина, который бы помог от исторического похмелья.
Бывают мысли, которых не выскажешь вслух, но которые поднимают тебя высоко надо всем, в вольный свежий воздух.
Рассказывают, что Ницше, оставшись после разрыва с Лу в полнейшем одиночестве, по ночам поднимался на горы, которые окружают генуэзскую бухту, раскладывал огромные костры и смотрел, как они горят. Я часто думал об этих кострах, и они отбрасывали свой пляшущий отсвет на всю мою умственную жизнь. Если же мне случалось быть несправедливым по отношению к некоторым мыслям и некоторым людям, с коими я встречался на этом веку, то лишь из-за того, что я непроизвольно ставил их рядом с пылающими кострами, и они мгновенно превращались в пепел.
То, что он был вынужден скрывать определенную часть своей жизни, придавало ему вид честного человека.
Салакру в примечаниях к VI тому своих драматических произведений рассказывает такую историю: "Девочка лет десяти заявляет: «Когда я вырасту, вступлю в самую жестокую партию». И на вопрос «почему» разъясняет: «Если у власти будет моя партия, мне нечего бояться, а если другая, я пострадаю меньше, потому что преследовать меня будет совсем не жестокая партия». Насчет девочки не очень верится. Но подобные рассуждения мне знакомы. Именно так рассуждает – про себя, но не без пользы для себя – французская интеллигенция образца 1954 г.
Письмо к М. «Не проклинайте Запад. Я сам проклинал его в то время, когда он был в полном блеске. Но сегодня, когда он падает под бременем своих ошибок и своей слишком длительной славы, я не стану добивать его... Не завидуйте тем, на Востоке, кто принес ум и сердце в жертву богам истории. У истории нет богов, а ум, озаренный светом сердца, и есть тот единственный Бог, которому испокон века, под тысячью личин, поклонялись в этом мире».
Часто бывает, что из вполне добропорядочного человека выходит трусоватый гражданин. В основе подлинной храбрости всегда некое нарушение общепринятых норм.
Наши экзистенциалисты считают, что каждый человек сам отвечает за то, каков он есть. В таком случае в устроенном ими мире будут одни лишь сварливые старики и не найдется места состраданию. А ведь они заявляют, что борются против социальной несправедливости. Значит, все-таки есть люди, которые не несут ответственности за то, какие они: нищий не виноват, что он нищий. А калека, а дурнушка, а человек застенчивый? Так что же, вновь сострадание?
Когда в разговорах обо мне меня называли «начальником» (под чьим началом работа, в целом, шла успешно), меня так и распирало от дурацкого тщеславия. Но в глубине души все эти годы я просто умирал со стыда.
Бывают минуты, когда внезапная искренность равносильна непростительной потере контроля над собой.
Термоядерная бомба: в пределе это всеобщая гибель, и под этим углом зрения она тождественна человеческому уделу. Надо только принять правила игры. Вновь перед нами главнейшая и древнейшая проблема. Подойдя к бесконечности, мы начинаем все сначала. Еще одно несовпадение: всеобщее уничтожение исходит не от Бога, а от людей. Люди наконец-то стали богоравными, но лишь в своей жестокости. Значит, снова придется начинать тот древний бунт, но на этот раз против человечества. Уже требуют подать сюда нового Люцифера, который покончит с могуществом людей.
...Если сказать «у него нос тыквой» – так не говорят; а «нос грушей» – то, что надо. Выходит, искусство – это правильно рассчитанное преувеличение.
Если бы я когда-то не уступил своей страсти, быть может, у меня остались бы силы на то, чтобы вмешаться в жизнь, что-то изменить в ней. Но я уступил, и вот я художник – и только.
август 1954 – июль 1958
26 октября 1954 г.
Сила, противоположная реакции, это не революция, а творчество. Мир постоянно находится в состоянии реакции, и, значит, ему постоянно грозит революция. Прогресс же, если он в самом деле есть, обусловлен тем, что при любых порядках творцы неустанно отыскивают такие формы, которые одерживают верх над духом реакции и инерции, и поэтому отпадает надобность в революции. Когда творческие люди перестают появляться, революция неминуема.
Жимолость: ее запах для меня связан с Алжиром. Он плыл по улицам, которые поднимались круто вверх, к садам, где нас ждали девушки. Виноградники, молодость...
Белые розы по утрам пахнут росой и перцем.
1-е ноября.
Часто читаю, что я атеист, слышу, как говорят о моем атеизме. Мне же все эти слова ни о чем не говорят, они для меня бессмысленны. Я и в Бога не верую, и не атеист.
Павезе: «Дураки мы набитые. Правительство оставляет нам свободы с гулькин нос, так мы и то бабам скармливаем».
Рембрандт: слава до 36 лет, т. е. до 1642 г. Начиная с этого года неуклонный путь к одиночеству и бедности. Редкий и весьма показательный опыт по сравнению с банальной судьбой непризнанного художника. О подобном опыте еще не говорилось.
В странах с тоталитарным режимом литература погибает не столько потому, что ею руководят, сколько из-за того, что она отрезана от других литератур. Любой художник, от которого исходно скрывают реальность во всей ее полноте, – становится калекой.
24 ноября. 10 часов.
Сегодня утром приехал в Турин. Уже задолго начал радоваться от мысли, что вновь окажусь в Италии. Мы не виделись с ней с 1938 года, когда я пожил здесь немного. Потом война, сопротивление, «Комба» и все эти годы серьезных противоречий. Поездки, конечно, были, но ознакомительные, не для души. Мне все казалось, что в Италии меня ждет моя молодость, свежие силы, утраченный свет. Я хотел бежать из этого мира (из дома), который вот уже целый год по клеточке разрушает меня, хотел спастись раз и навсегда. Но вот вчера, когда поезд уже тронулся, я не ощутил прежней радости. Правда, я устал, и еще эта встреча с Гренье – мне-то хотелось поговорить с ним попросту, пообщаться, да вот не вышло, – а к тому же Х. не преминул на прощанье испортить настроение. Ночью спал урывками, но в промежутках, пока засыпал, мерещилось что-то очень хорошее.
В семь утра вдруг мысль: мы ведь уже в Италии. Вскакиваю, открываю штору: за окном снег и туман. Над всей Северной Италией – снег. Я сижу один в купе и хохочу, как полоумный. На улице не холодно. Тем не менее И. А., которая встречает меня на вокзале, уверяет, что она совсем закоченела. Своим милым неуверенным французским, своими спокойными грациозными движениями (чем-то напоминает маму), порозовевшая от холода, как цветок, пробившийся из-под снега, она понемногу возвращает мне Италию. Уже и до этого итальянцы, которые были в поезде, и вскоре те, что были в гостинице, согрели мое сердце. Народ, который я любил всегда и думая о котором я чувствую себя изгнанником среди вечно чем-то недовольных французов.
Из окна моего номера я гляжу, как над Турином идет и идет снег. Я все еще смеюсь над тем моим разочарованием. Но ко мне уже начинает возвращаться смелость.
Над Турином снег и туман. В египетской галерее ежатся от холода распеленутые мумии, которых когда-то вынули из песка. Люблю главные улицы, мощенные плиткой и такие просторные. Город, в котором возводили не только стены, но и пространства. Скоро я увижу и дом No 6 по улице Карло Альберто – тот самый, где работал Ницше и где у него окончательно помрачился рассудок. Я никогда не мог читать без слез рассказ Овербека о том, как он приехал сюда, вошел в комнату и увидел безумного Ницше, который что-то выкрикивал в бреду, а потом вдруг, рыдая, бросился в объятия Овербека. Стоя перед этим домом, я пробую думать о нем, о том, кого я нежно любил и кем одновременно восхищался, – но напрасно. Я лучше ощущаю его присутствие, гуляя по улицам, и мне понятно, несмотря на низкое хмурое небо, почему и за что он любил этот город.
Рассказ. Заключенные в концлагере выбирают папу, причем из тех, на чью долю выпало больше всего страданий, и больше не признают того, римского, который живет себе поживает в роскошном Ватикане. Своего они называют отцом, хотя он едва ли не самый молодой, во всем его слушаются и идут ради него на смерть, а в конце и он тоже умирает, защищая своих чад (или, наоборот, он всячески избегает смерти и бережет себя, потому что обязан заботиться о других, с этого и начать).






