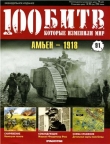Текст книги "Борьба за Дарданеллы"
Автор книги: Алан Мурхед
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 6
Голос становился все громче, послышался звук, более четкий, более волнующий, более способный, чем кто-либо другой, воздать должное благородству нашей молодежи, с оружием в руках занятой в этой войне... Но голос этот быстро затих.
Уинстон Черчилль в письме в «Таймс», 26 апреля 1915 года
Среди молодежи в Англии вспыхнула настоящая лихорадка в связи с «Константинопольской экспедицией». «Это слишком великолепно, чтобы поверить, – писал Руперт Брук, отправляясь в поездку. – Я даже не мог себе вообразить, что судьба может быть такой благосклонной... Рухнет ли башня Геро под ударами 15-дюймовых орудий? Будет ли море темным, как вино? Захвачу ли я мозаику из Святой Софии, турецкие услады и ковры? Станет ли это поворотным пунктом истории? О боже! Кажется, я никогда в жизни не был так счастлив. Так счастлив каждой своей клеткой, как поток, весь стремящийся к одному месту. Я вдруг понял, что целью моей жизни было – еще когда мне исполнилось два года – отправиться в военную экспедицию на Константинополь».
Руперт Брук при всем его романтизме, пыле и исключительно красивой внешности является символической фигурой в Галлиполийской кампании. Такое впечатление, что ему было предназначено самой судьбой оказаться там, что среди всех этих десятков тысяч молодых солдат он был тем, кто великолепно подходил для выражения их высокого духа, внутренней преданности, их «радости жизни наполовину и полуготовностью умереть»[6]6
Фраза Десмонда Маккарти в предисловии к «Ben Kendim» Обри Герберта.
[Закрыть].
В то время ему было двадцать семь, а условия его жизни были слишком хороши, чтобы быть правдой. В Регби прошли его лирические школьные дни, где его все любили и где он был в дружбе со всеми, а все литературные почести доставались ему. Потом Кембридж с его увлечением социализмом, любительские театры, посиделки на всю ночь, прогулки по полям, беседы об Оскаре Уайльде и песни всю дорогу. Как позднее Т.Е. Лоуренс, он встречал и очаровывал всех, кто был известен в Лондоне, – от Асквита и Черчилля до Шоу и Генри Джеймса. Он везде путешествовал (хотя всегда до конца ниточки, связывавшей его с Англией) и как раз перед войной был занят поисками пропавших работ Гогена на Таити в южной части Тихого океана. Черчилль помог ему получить офицерский чин в королевской морской дивизии, которая направлялась вначале в Антверпен, а затем на Галлиполи. Сейчас более, чем когда-либо, накануне этого нового приключения поэт подходил под образ героя поэмы г-жи Корнфорд:
Юный Аполлон златовласый
Стоит, мечтая, перед началом схватки,
Изумительно неготовый
К долгому ничтожеству жизни.
Скоро у всех на устах были собственные военные сонеты Брука:
Ныне стоит возблагодарить Господа, который
сравнял нас со своим временем,
И увлек нашу юность, и пробудил нас от сна...
Трубите в горны над множеством погибших!
Если я умру, думайте лишь обо мне;
Что где-то есть уголок зарубежного поля,
Ставший навечно Англией.
Все это – и обаятельная жизнь, и красота, и огромный, многообещающий талант, – все это сейчас подвергнуто риску гибели в бою где-то в классической Эгее. Действительно, это слишком красиво, чтобы поверить.
Как всегда, Брук был окружен друзьями. Тут были молодой Артур Асквит, сын премьер-министра, Обри Герберт, востоковед, «отправившийся на Восток случайно, как какой-нибудь молодой человек уезжает на прогулку и находит там свою судьбу», кроме них, Чарльз Листер и Денис Браун, которые определенно могли стать чем-то выдающимся в мире, если бы не было суждено вот-вот погибнуть. К этим постоянно добавлялись новые друзья, люди вроде Бернара Фрейберга, который на момент начала войны был в Калифорнии, но вернулся в Англию, чтобы вступить в армию. Он попал в морскую дивизию.
Скоро все они оказались в Египте, где жили в палатках, ездили в пустыню смотреть на пирамиды при лунном свете. Образовалась сплоченная группа со своим кодексом поведения и возбуждением от предстоящего приключения. И они были полностью счастливы. Потом Руперт Брук упал от солнечного удара, и главнокомандующий (которого он, естественно, знал еще в Англии) вызвал его к себе в палатку. Когда Гамильтон предложил ему место в своем штабе, Брук ответил отказом; он хотел вместе со своими коллегами высадиться на Галлиполи.
«Он выглядел невероятно привлекательно, – писал в своем дневнике Гамильтон, – совершенно рыцарская осанка у человека, вытянувшегося во фронт передо мной тут на песке, человека, для которого только мир имеет значение».
Комптон Маккензи в своих галлиполийских мемуарах вспоминает, как он также заболел галлиполийской горячкой. В то время он жил на Капри, только что опубликовал «Sinister Street» (которая сделала ему имя) и работал над заключительными главами «Guy and Pauline». Как только он услышал об экспедиции, им тут же овладело неистовое желание отправиться в Египет. Друзья в Уайтхолле подыскали ему место в штабе Гамильтона, и вот он отплыл в Средиземное море с первым пароходом из Неаполя, в ужасе от того, что все еще не имеет военной формы, и мучимый тревогой, что опоздает к главным событиям.
Почти всем этим молодым людям – и тысячам других, с меньшим воображением, но с таким же пылом – предстояло в первый раз в жизни очутиться в бою, и их письма и дневники показывают, насколько сильно чувство приключения пронизывало армию. В тот момент сдавливающий страх перед неизвестностью перекрывали новизна и возбуждение от происходящего, ощущение, что они своей группой в этом отдаленном месте изолированы и целиком зависят друг от друга. Они стремились проявлять храбрость. Они были уверены, что предназначены для чего-то более огромного и величественного, чем сама жизнь, может быть, даже для чего-то вроде очищения, освобождения от ничтожества вещей.
«Раз в поколение, – писал в дневнике Гамильтон, – сквозь народы проскакивает загадочная страсть к войне. Инстинкт подсказывает им, что нет иных путей для прогресса и для того, чтобы избавиться от обычаев, которые уже им не подходят. Целые поколения государственных деятелей мямлят о реформах на десятилетия, а эти реформы осуществляются во весь размах в течение недели со дня объявления войны. Другого пути нет. Народы могут расти лишь через глубокие страдания, в точности как змея, которая раз в год с мучением должна избавиться от когда-то прекрасной кожи, ныне ставшей тесной шкурой».
В длинной галерее британских поэтов-генералов Гамильтон является исключением какого-то трудноописуемого вида. С одной стороны, о нем известно все и, с другой стороны, ничего. Почти невозможно сказать, когда имеешь дело с поэтом, а когда с генералом. Где-то в это время, в апреле 1915 года, появилась замечательная фотография, где генерал снят на борту «Трайада», и она, может быть, открывает его внутренний мир глубже, чем все эти дневники и рассказы друзей. На снимке сразу же узнаешь других. Адмирал де Робек стоит твердо поставив ноги на палубу, руки сцеплены за спиной, а его твердое, как бы высеченное из камня адмиральское лицо сродни морским штормам. Кейс, со своей стороны, совершенно такой, каким и должен быть: худощавая, угловатая фигура, увы, некрасивое лицо при таких больших ушах, но самое привлекательное. Начальник штаба Брайтуайт – симпатичный профессионал, носит свою форму, как воин, и знает, где находится. Но все-таки внимание неизбежно вызывает Гамильтон. Все в нем не то и не так. У него почти жеманный вид, он в смущении наполовину отвернулся от камеры, одна рука как-то по-женски покоится на вертикальном брусе, а другая, кажется, прижимает к боку что-то вроде шарфа или куска ткани[7]7
В действительности его рука частично парализована, и он держит веничек от мух.
[Закрыть]. Пальцы длинные, четко очерченные и весьма чувственные. Лицо патриция, но какое-то нервное, и ему как будто не по себе. Форма на нем сидит неважно – или, скорее, это он создает впечатление, что вообще не должен носить униформу. Его фуражка – настоящее несчастье. На Брайтуайте как раз то, что надо, и она хорошо сидит на нем. На Гамильтоне она сидит как блин, китель кондуктора автобуса, брюки слишком узки для его дугообразных ног. Физически никогда не подумаешь, что это главнокомандующий. Он просто не внушает доверия.
И все-таки по этой фотографии ясно без всяких сомнений, что перед нами исключительно интеллигентный человек – куда более интеллигентный, чем любой другой. Вглядываешься снова и замечаешь, что хочется, чтобы эта интеллигентность, эта чувствительность и быстрота, как у птицы, также содержали хоть какой-то микроб решительности, может, какой-то сорт утонченного мужества, которого мы не замечали ранее, и все равно остается неуверенность.
Остается только его записям разубедить нас. Когда была сделана эта фотография, генералу было шестьдесят два года. Ян Гамильтон родился в Средиземноморье на острове Корфу и всю свою взрослую жизнь провел в армии. В самом деле, его послужной список длиннее, чем почти у любого генерала. Он воевал с племенами на северо-западной границе Индии, прослужил в армии всю Англо-бурскую войну, был на стороне японцев в Маньчжурии в Русско-японской войне. Последние годы находился на постах главнокомандующего на Средиземном море и генерального инспектора заморских вооруженных сил. Как говорят его современники, Гамильтон был одним из тех необычных людей, которые внешне совсем безразличны к опасности. Его левая рука была разбита в начале карьеры, и его не раз рекомендовали к награждению Крестом Виктории.
Но была еще одна деталь, которая выделяет его из общего ряда: исключительный талант писателя. Он читал и написал много стихов и любил вести дневники в стиле французской скорописи, который он сам изобрел. Эти краткие записки, говорил он, очищают мозг и располагают события в перспективе. В ипостаси офицера штаба он был полон идей. Например, в его «Альбоме штабного офицера» предсказано отмирание кавалерии, которую сменит окопная война.
Через всю его жизнь красной нитью проходит одна тема: лорд Китченер. Китченер был звездой Гамильтона.
Пятнадцать лет назад Гамильтон служил начальником штаба фельдмаршала в Южной Африке, и близость, которая возникла между ними, переросла обычное восхищение младшего к своему начальнику. Тут сказывалась сила в Китченере, его массивность, которая, похоже, глубоко компенсировала что-то такое, чего недоставало в личной жизни Гамильтона. Он был достаточно умен, чтобы замечать слабости Китченера, и в своих дневниках изредка позволяет себе мучиться по этому поводу, как переживает женщина за своего мужа. Но стоило Китченеру заговорить громче, и Гамильтон тут же таял. Старик Китченер в любом случае был больше их всех. Надо было защищать его от дураков и критиков. Ни на один миг Гамильтон не оспаривал авторитет шефа. Всегда перед тем, как принять важное решение, он задумывался и спрашивал себя: «А что бы сделал Китченер?» И Китченер продвигал своего сторонника, доверяя ему, и вот сейчас отправил его в Константинополь.
Военный корреспондент Генри Невинсон сделал интересное замечание по поводу характера Гамильтона: «От перемешанной Шотландии и ирландских предков он унаследовал так называемые кельтские качества, которые истинные англичане рассматривают как с восхищением, так и с неприязнью. Его кровь одарила его столь заметным физическим мужеством, что после боев у Цезарь-Кемп и Дайамонд-Хилл автор этих строк, знавший его по тем местам, считает его образчиком редкого типа, который не только успешно скрывает страх, но и чувствует его. Несомненно, в нем был глубокий оттенок кельтского шарма – этого обаяния ума и безупречного поведения, которые вызывают подозрения у людей, не наделенных этими качествами».
После войны Гамильтона критиковали за то, что он находился под полным влиянием Китченера, за то, что оказался слабым командиром, комментатором сражений, а не действующим лицом. Но достаточно вспомнить, что его уважали и любили Уинстон Черчилль и многие другие влиятельные люди в Лондоне. В Галлиполи ни один из его коллег не высказывался против него – ни Кейс, ни любой из адмиралов, ни один из французов. Единственный, кто нападал на него, – один командир корпуса, которого Гамильтон отстранил от должности. При командовании Гамильтона не возникло ни единого спора между армией и флотом, а все союзные части служили ему с полной лояльностью.
Это само по себе было достижением, потому что группировка, формировавшаяся сейчас в Египте, на деле была сплошной мозаикой. Тут были французы, великолепно смотревшиеся на парадах, когда офицеры в черном и золоте, а солдаты в голубых бриджах и красных куртках. Были зуавы и Иностранный легион из Африки, сикхи и гурки из Индии, рабочие батальоны из ливанских евреев и греков. Были матросы британского и французского флотов, а также шотландские, английские и ирландские войска. И наконец, новозеландцы и австралийцы.
Последние были пока вещью в себе. Все они были добровольцами, им платили больше, чем каким-либо другим солдатам, и они проявляли дух, который не был похож ни на что, что можно было бы увидеть ранее на полях сражений в Европе. Странные изменения произошли в этой перенесенной британской крови. Едва ли сто лет прошло с тех пор, как их предки уплыли из пораженных депрессией районов Соединенного Королевства на другую сторону земного шара. Многие из них были смуглыми, невысокими и оголодавшими людьми. Сейчас их сыновья, которые вернулись, чтобы сражаться в первой для своей страны зарубежной войне, были ростом под сто восемьдесят сантиметров, лица их были худощавыми и жесткими, конечности – невероятно гибкими и сильными. В их голосах звучал грубый жаргон кокни, созданный ими самими, а их владение более простыми ругательствами и богохульством было просто ужасным даже с точки зрения самых либеральных армейских стандартов. Такие военные ритуалы, как приветствие, с большим трудом доходили до этих солдат, особенно в присутствии британских офицеров, которых они считали дегенератами, а их собственные офицеры временами, похоже, теряли над ними контроль. Каждый вечер тысячи австралийцев и новозеландцев отправлялись из своего лагеря возле пирамид в Каир, чтобы оттянуться несколько часов на менее респектабельных улицах, устроившись на крышах трамваев, погоняя свои нанятые такси и ослов вдоль дороги, – и город слегка вздрагивал.
Этот дух независимости в определенном смысле был неплох, но для Бёдвуда, британского офицера, который был поставлен командовать АНЗАК[8]8
Австралийский и новозеландский армейский корпус. Это сокращение носит неудачное сходство с турецким «анзак», что означает «почти».
[Закрыть], тут была проблема, которую не так легко решить. Почти все солдаты были гражданскими людьми, и кто знает, как они себя поведут, когда в первый раз попадут под вражеский обстрел? Начался период интенсивной тренировки, но времени в распоряжении командования было не так много.
Времени оставалось мало для всяких дел, которыми Гамильтон должен был заниматься, если собирался выполнить свое обещание провести атаку в середине апреля. Он добрался до Александрии лишь в полдень 26 марта, а это значило, что у него в запасе едва лишь три недели. А генералу предстояло ни много ни мало начать самую крупную в истории войн десантную операцию. Ни один пример из прошлого не шел в сравнение: в 1588 году испанской армаде не удалось высадить своих солдат на побережье Англии. Ни Наполеону в Египте в 1799 году, ни британцам и французам в Крыму в 1854-м не противостояли такие укрепленные позиции, которые в данный момент Лиман фон Сандерс воздвигает в Галлиполи. По сути, единственная операция, сравнимая с этой, будет проведена через тридцать лет на песчаных отмелях Нормандии во Вторую мировую войну, а планирование нормандского десанта заняло не три недели, а почти два года.
Гамильтон стал искать в памяти аналогии классических времен. «Высадка армии в расположении театра военных действий, который я описывал, – докладывает он в одной из своих депеш, – театра, повсеместно укрепленного гарнизонами и готового к этой попытке, – сопряжена с трудностями, не имеющими прецедентов в военной истории, кроме, может быть, ужасных легенд о Ксерксе».
В распоряжении генерала было 75 000 солдат: 30 000 австралийцев и новозеландцев, разбитых на две дивизии, 29-я британская дивизия из 17 000 человек, одна французская в составе 16 000 солдат и офицеров и одна королевская морская дивизия из 10 000 человек. Все эти силы вместе с 1600 лошадями, ослами и мулами и 300 автомашинами надо было собрать на борту кораблей, чтобы потом под огнем турецких орудий высадить на вражеском берегу.
Даже несколько удивительно, что эта экспедиция вообще вышла в море. К 26 марта административный персонал Гамильтона все еще не прибыл из Англии (люди добрались до Александрии лишь 11 апреля), многие из солдат все еще находились в плавании, не существовало никаких точных карт местности, не было надежной информации о противнике, не составлены планы и еще не было решено, в каком месте высаживать армию.
Не было ответа на простейшие вопросы. Имелась ли на побережье питьевая вода? Есть ли там дороги и какие они? Какие потери можно ожидать и как доставлять раненых до плавучих госпиталей? Где придется драться в окопах, а где в чистом поле и какого рода оружие потребуется? Какова глубина воды у берега и какие плавсредства понадобятся, чтобы перебросить туда людей, орудия и склады? Будут ли турки сопротивляться, или они не выдержат, как в Сарыкамыше, а если так, то как союзники собираются преследовать их без транспорта и припасов?
Возможно, сама запутанность ситуации позволила персоналу довести дело до конца. Поскольку никто не мог реально учесть предстоящие трудности, в надежде на лучшее брали тот материал, что оказался под рукой. Начался период отчаянной импровизации. Солдат отправляли на каирские и александрийские базары для закупок шкур, канистр, керосиновых емкостей – всего, в чем можно хранить воду. Другие в доках закупали буксиры и лихтеры, третьи отбирали ослов и погонщиков к ним и приводили в армейские лагеря. Не было перископов (для окопных боев), ручных фанат и окопных минометов, артиллерийским мастерским было поручено спроектировать и изготовить их. В отсутствие карт штабные офицеры прочесывали магазины в поисках путеводителей.
В доках Александрии были установлены осветительные лампы, чтобы работы по разгрузке и повторной погрузке на корабли могли продолжаться и ночью, и скоро гавань заполнилась судами любого типа, начиная с буксиров с Темзы и кончая реквизированными лайнерами. Не хватало почти всего – орудий, боеприпасов, самолетов и людей, – и Гамильтон посылал Китченеру серии телеграмм с просьбой прислать подкрепления. Он обнаружил в египетском гарнизоне бригаду гурков – нельзя ли их взять? Где резервы артиллерии и снарядов? На эти запросы следовал либо короткий и выразительный отказ, либо не было вообще никакого ответа. Гамильтон понимал, что он вряд ли может настаивать, Китченер был известен своей грубостью с подчиненными, которые его донимали. Однажды он даже забрал войска у одного офицера, просившего подкреплений. К тому же Гамильтон помнил, что перед отплытием он обещал Китченеру, что не будет надоедать просьбами подобного рода. Черчилль, конечно, помог бы, но генерал сознательно держал дистанцию в отношениях с первым лордом. Де Робек также был сдержан в своих просьбах, потому что его послания попадали прямо к Фишеру в Адмиралтейство.
«Еще более, нежели на флоте, – писал Гамильтон, – я обнаружил в авиации глубокое убеждение, что, если бы они могли иметь прямую связь с Уинстоном Черчиллем, все было бы хорошо. В любом случае, их вера в первого лорда трогала. Но у них не было контакта, и они были проникнуты мыслью, что лорды Адмиралтейства в лучшем случае равнодушные люди; в худшем – активно враждебные нам и всему нашему предприятию».
Собственные командиры дивизий у Гамильтона были далеко не энтузиасты. Перед тем как приступить к составлению планов вторжения, генерал попросил их изложить свои взгляды и получил самую обескураживающую коллекцию ответов. Командир 29-й дивизии Хантер-Вестон считал, что трудности настолько велики, что от экспедиции надо вообще отказаться. Командир морской дивизии Парис писал: «Высадка была бы трудна, если бы была неожиданной, но крайне опасна в настоящей ситуации». Бёдвуд изменил мнение: он уже не хотел высаживаться на берег на оконечности полуострова, а предпочитал Булаир или где-нибудь по соседству с Троей. Французы также были единодушно за Азию. Даже султан Египта на официальном обеде во дворце Абдин в Каире высказал свое мнение. Он уверял Гамильтона, что турецкие форты в Дарданеллах абсолютно неприступны.
Существовали и другие, не менее серьезные тревоги и опасения. Вопросы безопасности решались из рук вон плохо. Греческие торговые каики замечали каждое приготовление на островах и доставляли информацию вражеским агентам в Афинах. В Александрию из Англии приходили письма со штемпелем «Константинопольская группа. Египет». A «Egyptian Gazette» в Каире не только объявляла о прибытии каждого нового контингента, но и открыто обсуждала шансы экспедиции в Дарданеллах. Гамильтон бесполезно выражал протесты; ему отвечали, что, так как Египет является нейтральной страной, британские власти не имеют права вмешиваться в газетную деятельность. Поэтому лучшее, на что ему оставалось надеяться, – это то, что турки будут воспринимать все эти публикации как намеренную дезинформацию, а разведке было поручено распространять по Ближнему Востоку слухи, что настоящая высадка будет проведена в Смирне.
Все это производило подавляющее впечатление. Но раз Китченер сказал, что попытка высадки должна быть сделана, никакого пути назад уже не было. Поэтому в первую неделю апреля Гамильтон и его персонал взялись за составление планов в своем штабе в отеле «Метрополь» в Александрии. Даже если бы они просчитались – а Гамильтон в эти дни, похоже, был в своей лучшей форме, проявлял терпение, оптимизм и исключительную энергию, – то вокруг него стала образовываться атмосфера, заставлявшая его продолжать работу не останавливаясь. Экспедиция начинала жить собственной жизнью. Какими бы унылыми ни были командиры, всеобщая воля к действию стала распространяться по всей армии. Солдаты горели желанием отправиться к месту назначения, и становилось отчетливо видно, что в свою первую атаку они пойдут с огромной решимостью. Сам вид кораблей, собравшихся в александрийской гавани, грохот молотов в мастерских, длинные колонны войск, марширующих в пустыне, – все это делало поход неизбежным, и, как только они пойдут в атаку, они обязаны победить. Это самовнушение, массовое стремление к приключениям стало сказываться и на генералах. По мере того как срок наступления близился, их прежние опасения уступили место практической и воодушевляющей работе по приведению армии в боевую готовность. Французский командующий д'Амад отказался от своей идеи высадки в Азии. Теперь Бёдвуд уже был уверен, что сможет высадиться со своими австралийцами и новозеландцами на берег. Парис заметил шансы, которые просмотрел ранее. А Хантер-Вестон, изучив карты и наличные силы, заявляет, что его прежние оценки были неверными – дело это вполне реальное, а ему особенно по душе та роль, которую ему предстоит играть.
8 апреля Гамильтон пришел к выводу, что подготовка идет удовлетворительными темпами, а поэтому он может выехать и представить план де Робеку и адмиралам. Лайнер «Аркадиан», выполнявший до этого увеселительные круизы к норвежским фьордам, был переоборудован в штаб-квартиру, и на нем он отплыл на Лемнос. Гамильтон прибыл в гавань Мудрос 10 апреля и тут же отправился на важное совещание с адмиралами на борту «Куин Элизабет».
План Гамильтона, хотя и сложный в деталях, сводился к простой атаке на собственно полуостров Галлиполи. Роль основной ударной силы отводилась его лучшей дивизии, 29-й британской под командованием Хантер-Вестона. Предстояло высадиться на пяти небольших береговых участках на мысе Хеллес на крайней оконечности полуострова, и выражалась надежда, что к концу первого дня гребень Ачи-Баба в шести милях в глубь полуострова будет в руках десанта. В это же время Бёдвуду предписывалось высадиться с группой АНЗАК выше примерно в четырнадцати милях между Габа-Тепе и Фишермен-Хат. Нанося удар поперек полуострова через холмы Сари-Баир, он должен был дойти до Мал-Тепе – горы, на которой согласно легенде сидел Ксеркс, наблюдая за своим флотом в Геллеспонте. Таким образом, турки, сражающиеся с Хантер-Вестоном на мысе Хеллес, будут отрезаны от своего тыла, и можно будет преодолеть холмы, господствующие над Нэрроуз.
Одновременно должны быть проведены две отвлекающие атаки. Королевская морская дивизия должна была делать вид, что высаживается на перешейке у Булаира, а французы совершают крупными силами налет на Кум-Кале на азиатской стороне пролива. Позднее эти два отряда должны будут вернуться на мыс Хеллес и подключиться к общей атаке. Предполагалось, что на второй или третий день нижняя часть полуострова будет завоевана, что позволит флотским тральщикам без проблем пройти через Нэрроуз в Мраморное море.
Де Робек, Вемисс и Кейс были в восторге от этого плана. Они согласились с Гамильтоном, что тот был прав, отказавшись от Булаира. Несмотря на всю привлекательность, это было слишком опасно. Как только армия продвинется в глубь территории, она окажется без поддержки корабельных орудий и будет под угрозой атак с обоих флангов – одной турецкой армии, спускающейся из Фракии, и другой, идущей из Галлиполи. Не исключена была возможность, что Болгария объявит войну и станет угрожать Гамильтону с тыла. Те же трудности возможны, если союзники решат нанести главный удар в Азии.
На самом полуострове нет достаточных по площади участков берега, где армия смогла бы сосредоточиться для сокрушительного удара, но рядом будет флот, который прикроет атаку в каждой точке, и в любом случае есть определенная польза в рассредоточении: Лиман фон Сандерс получит доклады о десанте одновременно из полдюжины пунктов и по крайней мере первые двадцать четыре часа не будет знать, где наносится главный удар. Поэтому он будет придерживать свои резервы до тех пор, пока союзники не закрепятся на берегу.
В план следовало внести одно важное добавление, и эта военная хитрость была предложена капитаном третьего ранга Унвином, которого, похоже, вдохновила легенда о троянском коне. Он предложил спрятать 2000 солдат в невинно выглядевшем угольщике «Ривер-Клайд» и посадить его на мель у мыса Хеллес. Как только он коснется дна, паровой хоппер и два лихтера тут же причалят к нему и, связавшись друг с другом, образуют мост на берег. Солдаты тут выскочат из двух проходов, которые надо будет проделать по бортам корабля. Перебежав по сходням на платформу на носу судна, они запрыгнут на мост и переберутся на берег. Рассчитывали, что судно опустеет за несколько минут. Кроме того, на носу будут установлены пулеметы, прикрытые мешками с песком, и они должны удерживать врага, пока будет происходить высадка.
Флот, в самом деле, был очень загружен несколькими подобными приспособлениями и импровизациями. Совершенно независимо от флотилии новых тральщиков Кейса, которая сейчас была готова, прибыло три линкора-имитатора. Раньше это были обычные торговые суда, а теперь их расширили, поставили деревянные пушки и различные надстройки. На удалении по своему силуэту они в точности походили на линкоры, и предполагалось, что их присутствие в Эгейском море может заставить германский флот выйти на бой в Северном море[9]9
Один из этих кораблей был торпедирован подводной лодкой возле Мальты и, должно быть, вызвал некоторое удивление у немцев, когда деревянные орудийные башни и 12-дюймовые пушки, погрузившись в воду, поплыли по течению.
[Закрыть].
Коммодор авиации Самсон обосновался на Тенедос, а к флоту присоединился авианосец «Арк Роял». Трудности его были почти неустранимы. Когда были распакованы тридцать самолетов, только пять из них были пригодны к использованию, но их оборудование, тем не менее, не внушало доверия. Бомбы сбрасывались либо с примитивного подноса под ногами у летчика, либо просто наблюдатель должен был швырять их за борт после удаления предохранителя. На этом этапе не установили никаких пулеметов, но вместо этого на борту находился запас железных стрел; пилот или наблюдатель метали их в какого-нибудь врага внизу наподобие охотника, сражающегося с медведем. Хотя эти стрелы, летя вниз, издавали неприятный вой и, конечно, приводили в беспокойство пехоту противника, они редко попадали во что-нибудь. Помимо этого, пилоты Самсона носили с собой револьвер, бинокль, а также спасательный пояс или пустую канистру из-под бензина, чтобы удержаться на поверхности в случае падения в море. Наблюдателей экипировали винтовкой, картами и часами.
С помощью греческих рабочих на Тенедос была построена взлетно-посадочная полоса длиной 700 метров, для чего греки выкорчевали виноградники, а с помощью залитых цементом бочек относительно выровняли поверхность ВПП. Но база все-таки не удовлетворяла требованиям. С острова хорошо был виден полуостров Галлиполи, но мыс Хеллес был в 17 милях, а Габа-Тепе, где предстояло высадиться австралийцам и новозеландцам, в 31 миле, а это были значительные расстояния для самолетов тех дней. О Константинополе, естественно, и говорить было нечего.
Несмотря на эти проблемы, Самсон, во многих случаях вылетая лично, уже начал приносить полезные результаты. В качестве наблюдателей он брал с собой морских офицеров (обычно легковесных корабельных гардемаринов), ввел в пользование новый радиотелефон, и обнаружение целей для корабельной артиллерии резко улучшилось. Поскольку радиотелефон с самолета работал только на передачу, корабли отвечали на полученные сообщения светом прожекторов. Таким методом было проведено несколько бомбардировок, в частности налет на Майдос 23 апреля.
Однако значительно более важной частью работы Самсона в последние дни перед атакой было фотографирование вражеских оборонительных линий. Гамильтон и Кейс вместе тщательно изучили эти фотографии и не были обрадованы. Везде, кроме одного или двух мест, предназначенных для десанта, было изобилие признаков колючей проволоки. Эта проволока стала для всех них кошмаром, и Гамильтон по секрету доверился Самсону, что опасается, что при первой высадке потери составят даже пятьдесят процентов. Если бы у них было несколько новых бронированных десантных лодок, которыми обладает флот, была бы другая история – но тогда это был тщательно охраняемый Адмиралтейством секрет, и даже Китченеру не было положено об этом знать.
Когда Гамильтон отъезжал из Дарданелл в марте, тогда предполагалось, что флот будет беспокоить турок сериями обстрелов вдоль побережья, но сейчас выяснилось, что все такого рода операции невозможны. Вся энергия флота была израсходована на подготовку десанта. Было решено, что основная масса сил вторжения будет собрана в гавани Мудрос на острове Лемнос, а вспомогательные базы будут находиться на Имбросе, Тенедос и Скиросе. За сорок восемь часов до высадки флот вместе с армией начнет выдвигаться к местам сосредоточения на Галлиполийском полуострове. В миле-двух от берега войска пересядут на лихтеры и небольшие лодки, а до берега их отбуксируют моторные лодки группами по четыре. Фактическая высадка произойдет с первыми рассветными лучами солнца, атакующие будут нести на себе не более 200 патронов, винтовки и окопный инструмент, а также трехдневный рацион.