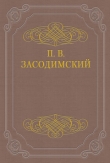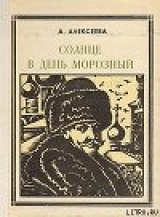
Текст книги "Солнце в день морозный (Кустодиев)"
Автор книги: Адель Алексеева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Совет негосударственный
Каждый день – по пять часов стояние перед мольбертом. (У Репина все больше болела правая рука, и он теперь учился работать левой.)
Каждый день – «свидание» с государственными «натурщиками».
Каждый день – старание разгадать, уловить какую-то индивидуальность под непроницаемой маской.
Каждый день – изнурительный бой, где оружием служит кисть и палитра.
И так второй год подряд.
Сколько здесь мук и трудностей, столько же радости от работы.
Чтобы уравновесить и оживить композицию из десятков сидящих фигур, Репин предложил слева изобразить во весь рост графа Бобринского, а справа служащего канцелярии. В центре стоял государственный секретарь Плеве, читающий высочайший указ. Если три стоящие фигуры мысленно соединить, образуется треугольник, который дает ощущение пространства. Это прекрасно выявило перспективу. И еще существенную деталь внес Репин: решил, что служащий с перьями в руках должен идти через зал по диагонали. Это внесло легкое неуловимое движение во всю картину.
Да, Репин был Репин! Он гениально нашел композицию. Что касается портретов работы учеников, он не делал мелких подсказок помощникам. Решал, кому кого писать, определял позу, мог забраковать готовый портрет. Но не переписывал того, что делали помощники. Все три художника могли писать одно и то же лицо. Репин писал Игнатьева, Половцева, Бобринского, Витте, и Кустодиев тоже. Кого переносить на холст – решал учитель.
Глядя на подмалевок какого-нибудь кустодиевского портрета, Репин мог проходя заметить:
– Недурно-с, недурно-с. Теперь не мельчите, форму обобщайте. Поверхность нечего дробить. Не испортите – хорош будет…
Однажды великий князь попросил разрешения посмотреть картину. Репин недовольно, молча откинул занавес.
– Изумительнэ, Илья Ефимович! – воскликнул князь. – Под вашей волшебной кистью как бы из ничего рождается целый мир. Да это совсем как в Книге бытия. О, я узнаю уже многих… А как значительно лицо у этого советника, что напротив Половцева сидит, не правда ли?
– Да, – неопределенно ответил Репин, всякий раз раздражаясь при необходимости объяснять, говорить что-то возле незаконченной картины.
Работа шла трудно и нервно. Все трое уставали, и однажды Репин сказал:

Юлия Евстафьевна Кустодиева.
– А что, братцы, ежели мы забастуем? Возьмем отпуск месяца на два-три – и кто куда.
Куликов, который часто побаливал в ненастном городе, мечтал уехать к себе в родной Муром.
– В самом деле! – подхватил Кустодиев. – Как хорошо бы теперь в Семеновском пописать этюды к конкурсной картине…
У него были и особые причины радоваться отъезду из столицы. Совершенно особые. Он даже смутился под проницательным взглядом Репина.
А причины были такие.
…Это случилось давно. Или недавно? Или было всегда? В парке раздавались голоса – то ли с неба, то ли с земли.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Погляди на небо
Журавли летят!
Двое молодых людей взбежали на пригорок, юноша в вышитой рубашке и темноволосая девушка в длинном платье.
В небе кричали, пролетая, птицы. Дул ветер, бежали облака. Шумели вековые липы, как проплывающие корабли, сквозь густую листву копья солнечных лучей пронзали воздух…
Снизу звали:
– Борис Михайлович! Юля!
Но молодые люди не отвечали. У них был свой разговор. И в воздухе им чудился тихий звон, подобный звукам челесты.
– Расскажите мне о себе. Я хочу знать о вас все, Юлия Евстафьевна!.. Молодой человек смотрел ей в глаза.
И Юлия Евстафьевна рассказывала, задумчиво перебирая кисти шелковой белой шали.
– В детстве я жила на казенной квартире министерства иностранных дел, это оттого, что отец мой служил там. Родители мои поляки, Прошинские. Нас было пять человек детей. И вдруг отец скоропостижно скончался. Нас с сестрой Зоей взяли сюда, в усадьбу Высоково, старушки Грек. А потом я поступила в Смольный институт, окончив, стала работать машинисткой и учиться в школе поощрения художеств. Вот и все… Остальное вы знаете, – то ли вопросом, то ли утверждением закончила она. Улыбнулась и сразу необычайно похорошела.
Знал ли он? Ведь это было их знакомство. 1900 год. Он приехал на каникулы с товарищами в Семеновское, под Кинешму, и здесь, в Высокове, увидел ее…
Борис Михайлович с удовольствием повторял забавные названия, что бытовали в тех местах: Маури-но, Яхруст, Иваньковица, Медоза… А потом были прогулки верхом, поездки на ярмарку, лес, грибы. Тишина старинной усадьбы, семейные предания старушек Грек, в гостиной огромные кресла с орлами над головой, музыка. Все это захватило его. И не покидало ощущение отъединенности от мира вдвоем с ней.
Он писал, работал. Она смотрела на него с одобрением. Он рисовал славного мужика Тимошу, что ходил с ним на охоту, ребятишек. Гурий Смирнов, Андрей Воронов, Федор Логинов… Всем по 12–14 лет. Тут и любопытствующие идеалисты, и спокойно-благородные затворники, и «молчаливые» лопухи, и настороженные увальни. Юлия радовалась его умению передавать характер.
Знакомство их было тогда непродолжительным. А потом – переписка и встречи в Петербурге. Они писали друг другу, писали нечасто, сдержанно, почти обыденно, но между строк читали то тайное, что связывало их теперь.
"…как, я думаю, теперь хорошо у Вас – серые тучи, ветер шумит по березам, и галки стаями кричат и перелетают; я их страшно люблю. Особенно хорошо теперь в Семеновском, у церкви – это такая музыка, что симфония и соната не дадут того радостного и вместе щемящего чувства. А Вы никогда не слыхали, как летят журавли осенью? Как много есть хорошего, никогда не забываемого в природе, дорогая Юлия Евстафь-евна…"
Проходили месяцы. А казалось, лишь вчера взбежали они на пригорок при звуках "Гори, гори ясно"…
"Поздравьте меня, я получил за портрет на выстав ке в Мюнхене вторую золотую медаль (за портрет Би либина. – А. А.). И хотя это и щекочет самолюбие, но будьте уверены, что значения этому не придаю… Этим они мне придали только больше желания работать и работать серьезно, чтобы действительно сделать что-либо".
"…Я Вам безусловно верю во всем, что Вы говорите, и буду верить, но… меня преследуют сомнения, – не относительно Вашего ко мне чувства, а вообще в том, что будет. Вот собственно то, что, быть может, я Вам не писал, но что Вы почувствовали по тону моего письма…"
Юлия Евстафьевна, наделенная в одинаковой степени нежной душой и спокойным разумом, понимала: он думает о будущем, об их будущем.
Для человека, который решил посвятить себя искусству, а Кустодиев уже отдал всего себя живописи, любовь не просто налетевший счастливый ветер. Ночами он думал: разделит ли она его увлеченность искусством, даст ли он ей материальный достаток, смирится ли она, если неделями он не будет вылезать из мастерской. Быть женой одержимого человека трудно.
И в этот год и на следующий они вместе читали книги по искусству, статьи Бенуа, Стасова, стихи Блока, Брюсова.
Он писал этюды в Семеновском и Иваньковице, при закате и в дождь. Работал азартно, истово. Рисовал и карандашом, и углем, и пастелью. Он любовался Юлией, она терпеливо позировала…
…Вот какова была причина особой радости Кустодиева, когда Репин предложил отдохнуть от "Государственного Совета".
А 8 января 1903 года в маленькой церкви на Екатерининском канале в Петербурге состоялось венчанье.
Новобрачные ступили на хрусткий снег. Сели в карету. На деревьях лежал игольчатый иней. Безмолвно сияло зимнее солнце. Иней, отяжелев на солнце, со звоном падал на землю…
…7 апреля на сеанс во дворец пришел сам министр внутренних дел С. Ю. Витте, объявил, что свободных у него всего часа полтора. Кустодиев должен был за это время сделать портрет в манере Репина, быстро, без детализации, широкими мазками. За годы работы он хорошо усвоил метод темпераментной репинской кисти, свободной, широкой и точной.
Витте сидел перед художником, как перед официальным просителем. Кустодиеву мгновенно и ярко представилась его сущность, стало ясно, как писать. Кисть быстро касалась холста. Остались непрописанными мундир, грудь, руки, но главное было схвачено: старчески-брезгливое выражение лица сановника.
– Да это прекрасно! – заметил Репин, увидев портрет. – Смело, верно, без мелочей… Поздравляю.
Дома Борис Михайлович сказал жене:
– Ты знаешь, я, кажется, тоже кое-что могу. Школа Репина – вот как глубоко во мне! – Он прижал руку к груди.
Для картины "Государственный Совет" он написал около двадцати портретов.
Осенью 1903 года картина наконец была почти за-,-кончена. Репину оставалось пройтись кистью по всему холсту, устранить мелкие недочеты, кое-где успокоить колорит и написать с фотографии Сипягина: год назад министр Сипягин был убит членами партии эсеров.
Гигантский труд, изнуривший и учителя, и его помощников, был завершен. Вместе с тем подошло к концу и учение в академии. 8 ноября 1903 года Кустодиев получил свидетельство Академии художеств за № 3104 на звание художника и право ношения серебряного академического знака.
Вообще 1903 год для Кустодиева был счастливым, удачливым годом. Женитьба. Рождение сына. Окончание работы над «Советом». И наконец, пенсионерская поездка за границу для знакомства с мировой живописью, "для усовершенствования в художестве".
Незадолго до отъезда они с женой пошли смотреть "Государственный Совет". Картину для всеобщего обозрения должны были выставить только через несколько дней.
Юлия Евстафьевна обычно подолгу всматривалась в картины, молчала. Так и теперь. Он искоса взглядывал на нее. Наконец она сказала тихо, почти шепотом:
– Вы слились с Репиным. Тут невозможно отличить, где один, а где второй. Илья Ефимович скроил тебя по своему образу и подобию.
Кустодиев внимательно взглянул на жену. Затем лицо его приняло хитроватое и насмешливое выражение, и он заметил:
– Ты думаешь, я уже скроен? А может быть, мне еще предстоит себя самому перекраивать?.. Вот поедем в Париж, посмотрим, что там делается. Решим, на что я еще способен…
Возвращение из-за границы
Поезд пересекал аккуратные, робко зеленеющие поля Германии. Франция была уже позади.
Кустодиевы ехали в купе второго класса. Юлия Евстафьевна держала на руках восьмимесячного сынишку.
Всего несколько дней назад в Париже Кустодиев писал их для картины «Утро». Жена, одетая в просторную розовую кофту, купала в широком белом тазу Кирилла. Скользкое, упругое розовое тельце, на воде блики солнца… Не сразу тогда удались они ему…
Париж, с его богатой художественной культурой, для живописца, как Рим для пилигрима. На небосклоне его сияло множество звезд: Моне, Дега, Ренуар, Си-слей, Сезанн, Матисс, Пикассо, Ван-Гог, Пюви де Шаванн. Одни уже стояли в зените, иные только появлялись на горизонте. Глаза разбегались от света их, а путь не освещала ни одна. Растеряться тут было легко, стать подражателем еще легче. Он уехал обогащенный, наполненный впечатлениями, но немного чужой этому пиршеству живописи.
Зато как захватывали его там народные зрелища, праздники, ярмарки! Служба в соборе Нотр-Дам, ночь на страстную пятницу в Севилье, когда он ездил на несколько дней в Испанию!
В письме из Севильи он писал: "По узким улицам, запруженным народом, очень медленно двигаются всевозможные изображения страстей Христа… Громадные балдахины с богородицей, кресты, орудия пытки… Кругом все в черном, в высоких колпаках с капюшонами на лицах и двумя отверстиями для глаз, с крестами различного цвета на груди и высокими свечами". Это письмо точное изложение сюжета картины, написанной тогда же, в Севилье.
Вечером в ту предпасхальную ночь они пошли в сторону Гвадалквивира, потом сидели возле памятника Веласкесу, великому Веласкесу… Веласкес, его мастерство – это было, пожалуй, самое сильное художественное впечатление, вынесенное Кустодиевым из-за границы.
Подолгу стоял у картин Веласкеса, тщательно копируя его. И потом писал профессору Матэ: "Какой это был удивительный художник, для него, кажется, не было ничего невозможного. Тонкий и вместе с тем удивительно простой рисунок. Живопись то сильная, энергичная, с широкими мазками, целой грудой красок, то нежная, еле уловимая, легкими лессировками. У него почти нет портрета, писанного одной и той же манерой…"
– Господа! Вержболово! – раздался голос проводника.
Борис Михайлович обнял сразу обоих, жену и сына. Вержболово – первая русская станция!
За окном темнела дорога весенними лужами. Серебрились колобки вербы на красных прутьях. Висела кружевная зелень на березах. Шли бабы с котомками за плечами. И пели. Слов было не разобрать, но сердце отчего-то заныло…
По коридору пронеслось:
– Граница! Приготовить документы!
Среди пассажиров второго класса началось беспокойное, хлопотливое движение.
И вот в дверях золотые пуговицы, синий живот, круглый подбородок таможенный чиновник.
– Документики!
Кустодиев полез во внутренний карман.
Чиновники иностранного и военного ведомств, служащие фирм, дельцы и просто любители заграничных путешествий рылись в карманах, бумажниках, доставая документы. Таможенники тщательно сверяли документы: шел 1904 год, война с Японией.
Вержболово – заштатная русская станция с грязным вокзальчиком, забитым людьми, с трактиром, из которого разносился на всю станцию запах кислых щей, с казенкой, торговавшей по определенным дням водкой.
В купе вошел новый пассажир. Поздоровался, заметил, как внимательно Кустодиев разглядывает что-то за окном, сказал не зло, скорее весело:
– Узнаете Россию? После заграницы-то небось один запах щей сразить может. А мужики пьяные с котомками, а бабы, закутанные до глаз?.. Вот она, матушка!
Пассажир оказался словоохотливым. Сразу рассказал, что едет в Петербург по юридическому ведомству: разбирать одно обжалованное дело.
– А вы, осмелюсь спросить, по какому делу за границу ездили?
– По какому делу? Да… по художественному, – отвечал Кустодиев. Получил в Академии художеств на год пенсионерскую поездку во Францию. И вот…
– И целый год там жили?
– Нет, немногим более пяти месяцев.
– Отчего же так рано назад?
– Отчего? – Борис Михайлович помолчал и уклончиво ответил: – Вот ребенок маленький. – Он кивнул на Кирилла, который со всей силой своими толстыми ручонками старался оторвать голову игрушечному жирафу. – И оттого что в России война с японцами. И вообще домой пора. Человек, имеющий дом, долго не может скитаться… Даже в красивейшей из стран – Франции…
Попутчик искренне удивился. И спросил:
– Вот вы в Академии художеств служите, или, вернее, учились, теперь преподавать будете. Вы, конечно, всех художников знаете. Слышал я, что знаменитый Репин со знаменитым Стасовым помирились. В чем была причина их ссоры?
Борис Михайлович невольно рассмеялся. Хотел уклончиво свести разговор на шутку, но дотошному судье хотелось знать всю историю.
А история была такова.
В 90-е годы шел спор о роли мастерства, живописной выразительности в искусстве. Репин говорил о совершенствовании живописного мастерства, о том, что надо учиться у великих Тициана, Веронезе.
Стасов же в полемике с Репиным упрекал его за отход от идейного искусства в сторону чистого мастерства. Они ссорились в письмах, при встречах, в статьях. В пылу ссоры Стасов назвал Тициана и Веронезе «дурацкими» художниками. Репин в ответ сообщил, что надеется "больше никогда не видеться со Стасовым".
Неизвестно, что было бы дальше, если бы не картина "Государственный Совет". Стасов увидел в этом полотне яркую социальную картину, разоблачающую самодержавие. После пятилетнего молчания два великих мастера, наконец, помирились.
В борьбе Репина и Стасова в какой-то степени отразился важный этап в развитии русского искусства. Кустодиев стал невольным свидетелем и даже участником его. Образно это представлялось ему так: художник движется, как Одиссей между Сциллой и Харибдой, где Сцилла – это чистое мастерство, академизм, а Харибда – скучный натурализм тех, кто говорит об идейности и недооценивает мастерства. Между тем настоящий художник как Одиссей, должен проплыть между этими скалами, тогда он попадет в царство подлинного, живого искусства…
Искусство русское, как и вся Россия, было на переломе. И в спорах этих лет нашли отражение напряженные умственные искания России, стоявшей на пороге будущих революционных бурь.
– Посмотрите в окно, – продолжал неугомонный судья, – в Россию едем. Соха, избы еще по-черному топятся, книгу в деревне не сыщешь, бедность беспросветная… Что за проклятая страна?.. Вот вы молчите, а я прямо скажу. Какая жизнь, такое и искусство. Ведь все равно нам до Европы как до луны.
– Вы уверены? – лукаво прищурился Кустодиев.
– Мы до сих пор носим эти несуразные платья, эти платки, лапти. Народные костюмы? По-моему, в Европе…
Кустодиев нахмурился: кому, как не ему, хорошо знающему русскую жизнь от глубокой провинции до царского дворца, не знать о бедности, не испытывать боли и стыда за Россию. Но говорить об этом вот так, всуе, с бездумностью и злом?.. Да еще охаивать народное искусство!
– Милостивый государь! – Голос его стал жестким. – Избавьте меня от такого разговора.
– Вот все вы не любите правды-то… Или еще говорите: любовь к родине списывает недостатки. А по-моему, если плохо, так нечего и любить, торжествовал собеседник.
Юлия Евстафьевна беспокойно вскинула глаза. Проснулся и заплакал Кирюша.
Кустодиев встал, посмотрел на спутника потвердевшим взглядом и вышел из купе.

Часть вторая
На ярмарке
Лето 1904 года в Петербурге выдалось раннее. Вначале июня были дни, когда солнце грело с астраханским усердием. Кустодиев радовался жаре, как настоящий волжанин.
В квартиру на Мясной к ним теперь, после возвращения из-за границы, часто захаживал младший брат Бориса Михайловича – Михаил. Он жил в Петербурге, работал на заводе и одновременно сдавал экзамены в Технологическом институте; приходил Михаил с последними новостями, из кармана торчали какие-нибудь газеты.
– Да ты посмотри, какие волосы я отрастил. У меня сразу стал приличный затылок, круглый! – Он вертел головой перед Борисом. – Теперь с любой точки можно меня рисовать.
– Что мы и сделаем сейчас, – заметил Кустодиев. – Теперь, после разлуки, мне не только твой плоский затылок нравится, даже твой нос хорош! Я уже не говорю об усах.
Борис Михайлович аккуратно раскладывал карандаши, резинку, ножик, листы из альбома: он любил порядок в работе, чтоб все было под рукой.
– Хочешь, я почитаю тебе газеты, пока ты рисуешь? – Михаил вытащил из кармана газету. Брат посадил его так, чтобы рисовать сбоку, почти со спины. Прикрепил лист кнопками.
– Итак, что пишет "Новое время" с театра военных действий? – звонким голосом проговорил Михаил. – Оно пишет: "В ночном бою с судов и батарей выпущено около 2500 разных снарядов…" Далее: "Маленькая Япония возымела дерзость набрасываться на великую державу, втрое более крупную, чем она"…
В статье дается отпор "унынию, которое хотят навести на общество трусы". А трусами, – комментировал Михаил, – у нас теперь называют тех, кто критикует порядки.
Русско-японская война, которая шла уже пять месяцев, не принесла легкой победы России. Действительно, маленькая Япония наносила ей чувствительные удары. Все мыслящие люди России видели в этом нелепость и бездарность самодержавного строя и не стеснялись об этом говорить вслух.
– Ну, что там еще вещает "Новое время"? – спросил Кустодиев, обводя контуром линию головы.
– На третьей странице: "В последнее время в Москве, Петербурге и провинциальных городах стали появляться в большом количестве фальшивые купоны от серий Государственного казначейства… Предполагается, что шайкой выпущено поддельных купонов на 300 000 рублей". Так… Далее реклама в три полосы – сгусток мысли "Нового времени". Вот, пожалуйста: "Энергичный военный желает управлять домом", "Молодая симпатичная дама желает быть компаньонкой или хозяйкой у пожилых порядочных людей"… Жаль, что я не "пожилые порядочные люди".
– Зато ты сойдешь за энергичного военного и можешь управлять домом, добродушно заметил Кустодиев-старший, бросив быстрый взгляд на брата и опять обратившись к листу бумаги.
– Как меня выгонят из института, так я и пойду "управлять домом". Однако… вот интересное для тебя сообщение: "В 12 часов 45 минут пополудни ее величество государыня императрица Мария Федоровна в сопровождении свитной фрейлины графини Голенище-вой-Кутузовой посетила ателье скульптора князя Трубецкого, в котором сооружается модель памятника в бозе почившему императору Александру III… Ее величество изволила смотреть модель памятника и выразить свое удовольствие по случаю успешного хода работ… Объяснение ее величеству имели счастье давать председатель комитета министров статс-секретарь С. Ю. Витте, академик князь Голицын и скульптор князь Трубецкой".
Кустодиев задумался. Это удивительно, как принимают иногда произведение искусства! Памятник Трубецкого Александру III – это тяжелая, приземленная фигура царя, под стать ей лошадь, грузный битюг без хвоста. И вдруг одобрение царской семьи и Сергея Юльевича! От слепоты к искусству это или от желания скрыть очевидное? Что-то подобное было и с "Государственным Советом". Стасов увидел в нем приговор, другие – возвеличивание. Сколь многосложен и противоречив мир, сколь двойственна природа вещей…
– Так, значит, Трубецкой в последнюю очередь "имели счастье объяснение давать"? – сердито произнес Борис Михайлович. – И доколе художники будут занимать третьи места, когда разговор заходит об искусстве?..
В комнату вошла Юлия Евстафьевна с круглой коробкой в одной руке и свернутыми холстами в другой.
– Эти холсты ты приготовил с собой в деревню? Кустодиев что-то энергично стер на листе бумаги.
Отложил резинку, сделал еще несколько линий, поставил внизу буквы "Б. К." и приподнял рисунок так, чтобы видели брат и жена.
– Ну как? – спросил он.
– Как живой!
На рисунке был изображен вполоборота Михаил. Резкой линией очерчены голова и плечи, мягкая растушевка передавала вельветовую ткань на пиджаке, хорошо подстриженные волосы. Энергичная изящная линия и нежный полутон становились характерными чертами рисунка Кустодиева.
Тут только Борис Михайлович заметил, что жена держит в руках холсты, коробку, и бросился к ней:
– Прости, пожалуйста, Юлик! Да, да, эти холсты с собой, я упакую их. И в деревню!.. Долой из этого пыльного города!
…Бричка, запряженная тройкой лошадей, пылила по мягкой костромской дороге к усадьбе Павловское, где жил профессор геологии Поленов. Кустодиев любил эти места и зимой и летом, в праздничные дни и в тихие будни. Мог часами в базарный четверг или на ярмарке рассматривать узоры на дугах лошадиной упряжи, зарисовывать детские игрушки, расписные чашки, любоваться русскими лицами.

Купец.
Как-то он писал в письме:
"Ярмарка была такая, что я стоял как обалделый. Ах, если бы я обладал сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть. Затащил мужика с базара – и писал при народе. Чертовски трудно! Будто впервые. За 2–3 часа надо сделать приличный этюд… Пишу бабу покладистую – хоть неделю будет стоять! Только щеки да нос краснеют".
Ярмарки в Семеновском славятся на всю губернию. В воскресный день старинное село красуется во всем своем ярмарочном убранстве, стоя на перекрестке старых дорог: одна от Костромы на Макарьев, почтовая, «большак», другая – от Кинешмы в Галич, «торговая».
На прилавках хозяева раскладывают свой товар: дуги, лопаты, холсты беленые, бураки берестяные, вальки расписные, свистульки детские, половики, решета. Но больше всего, пожалуй, лаптей, и потому название села Семеновское-Лапотное.
Церковь стоит приземистая, крепкая, в самом центре села.
– А вот пироги-крендельки! Кому с жару с пару, карего глазу!
– Лапти, есть лапти! Скороходные.
– Эх, полным-полна коробушка! Лубки цветные, несусветные, про Фому, про Катеньку, про Бориса да Прохора!..
Мальчишка зазевался на гнутую птицу-свистульку, отстал от деда. Тот зовет его:
– Где ты там завял, неслух?
Шумит, звенит говорливая ярмарка. Людской певучий говор сливается с птичьим гомоном; галки на колокольне устроили свою ярмарку. Вон паренек заиграл на гармошке, выгнул ее на колене. Хороша гармоника, переливается, звонко-тонкая, маленькая!
Невелика музыка – на мальчишниках да на посиделках играть, – а завораживает, словно матушка со своими нехитрыми новостями. Незатейливая, простая, без широты и удали, зато простодушна, весела, неприхотлива.
Кустодиев остановился под резным козырьком крыльца крайнего дома.
Отсюда все как на ладони видно. Зеленые дали, мягкое полуденное солнце, неподвижные облака, как взбитые подушки, приколоты к синему небу. Галки над церковью. А лиц не разглядеть. Зато хорошо видно людское движение на базаре, без главных и второстепенных фигур, в массе. Великолепно! Чисто русская ярмарка красок, и звучат они как гармошка: трам-ла-ла-ла-ла…
Он вспомнил праздник в Испании, в Севилье – там женщины в строгом черном одеянии, и это торжественно гармонирует с суровым пейзажем. Вспомнил рыночную площадь азиатской разноязыкой Астрахани… И захотелось написать эту игрушечную с виду ярмарку. Тут надо уйти от желания писать лица похожими, от репинского реализма. Надо изобразить это как в народном лубке, с его наивностью, с его плоскостным изображением фигур, с простодушной радостью. Смутное предчувствие какой-то новой картины, ощущение ее необходимости отозвались в душе…
Вдруг кто-то тронул его за рукав. Он обернулся.
– Тимофей!
– Он самый, Борис Михайлович.
– Ну, здравствуй, здравствуй, рад я тебе. Как поживаешь?
Тимоша был здешним егерем. Не раз они вместе ходили на охоту.
– Как живу-то? Так не совсем чтоб плохо, хорошо, можно сказать, живу.
– Ну а как охота нынче, Тимоша? Сходим?
– Не выйдет, барин. Потому на войну меня забирают. С япошками пойду драться.
– А ты говоришь – хорошо живешь… Тимоша пожал плечами.
– Хозяйка велела вас звать. Уважите, зайдете? Домик Тимофея стоял поблизости, и Борис Михайлович зашел к нему.
От стены до стены углом стояли две широкие лавки. На одной сидели мужики, на другой – бабы. Большой деревянный стол, выскобленный до белизны, был уставлен снедью.
Гостя встретили приветливо, но без суеты. Посадили к стенке, угостили и больше словно не замечали, только хозяйка подкладывала ему в тарелку. А Кустодиев и рад был: так наблюдать легче.
Шла неторопливая беседа о сенокосе, обновках для детей, о продавце в казенке. Про то, что Тимофею уходить на войну, никто не говорил.
Кустодиев глядел на их значительные, какие-то затаенные лица. В каждом свое раздумье, достоинство, свой мир. Невольно вспомнились наутюженные, застегнутые на все пуговицы сановники из "Государственного Совета". Там была озабоченность, облеченная в хорошо обдуманные слова, здесь – подлинная, молчаливо-тяжелая забота.
Неожиданно Тимоша, вспомнив что-то, всполошился:
– М-м-м… Ишь я какой дурак. Купил на ярмарке картинку лубочную, да и забыл…
Он вытер руки, расправил картинку. Все склонили головы и сразу оживились.
– Пы-ры-ох… – начал читать подпись к картинке Тимоша и протянул бумагу гостю: – Михалыч-то лучше читает.
На лубочной картинке были нарисованы два дерущихся мужика. Внизу стояли жирные и высокие, как забор, буквы: "Прохор да Борис поссорились, подра-. лись, за носы взялись руками да бока щупали кулаками".
– И-и-и, глянь-ка, как он того за нос цапнул…
– А другой-то за грудки, за грудки…
– Ты, Тимофей, вот так-то япошку приструни. За бока его, за бока, да свой-то нос ему не давай.
– Да ежели б мне одежонку хорошую дали да ящичек с патронами! – лихо подмигнул Тимоша.
…Возвращаясь из Семеновского, он опять думал: какую форму придать тому, что он задумал написать? Какова вообще его роль в современном искусстве? Его назвали как-то неопередвижником, то есть новым передвижником. По какому пути он пойдет? Позиции старых передвижников слабели, на арене появились новые художественные объединения, и прежде всего "Мир искусства". В нем привлекало Кустодиева свежее видение мира, с передвижниками же его связывали народность, демократизм. В то же время он хотел, не становясь рабом идеи, «литературы», в живописи "рассказывать каждым мазком", чтобы картина «говорила», как старые голландцы, как Питер Брейгель. Хочется создать что-то радостное, «говорящее».
Он вернулся в усадьбу. В рассеянности поцеловал жену, сына. Прочел письмо от Михаила: "Здравствуйте, мои милые Загогулин и Загогулинка!.. После вашего отъезда жизнь пошла серее, несмотря на солнечные ясные дни… Портрет Бобринского водворили в Мари-инское палаццо… Не слышно ни свободных парламентских споров, ни митингов…"
В письмо была вложена газетная вырезка из "Нового времени" о том, что этюды Репина к картине "Торжественное заседание Государственного Совета" куплены за 10 000 рублей, из коих 5000 рублей согласно желанию профессора И. Е. Репина передано в "высочайше учрежденный комитет по усилению флота".
Граф Бобринский, император, пожертвования Репина – все это была далекая петербургская жизнь. Борис Михайлович же сейчас жил мыслями о будущей картине, картине совершенно нового характера, и чувствовал: учитель его Илья Ефимович не узнает своего ученика.

«На Кустодиева я возлагаю большие надежды. Он художник даровитый, любящий искусство, вдумчивый, серьезный, внимательно изучающий природу. Отличительные черты его дарования: самостоятельность, оригинальность и глубоко прочувственная национальность; она служит залогом крепкого и прочного его успеха» (И. Репин).
Автопортрет.

Портрет художника-гравера В. В. Матэ. 1902 г.

Портрет Р. И. Нотгафт. 1909 г.

Портрет И. Я. Билибина. 1901 г.

Портрет Ю. Е. Кустодиевой, жены художника. 1903 г.

«Вы – большой исторический живописец, у вас широкий охват русской жизни, и это обязывает вас перед будущим. Помните эту вашу миссию и высоко несите свое знамя» (М. Нестеров).
Автопортрет.

Ярмарка. 1906 г.

Портрет искусствоведа и реставратора А. И. Анисимова. 1915 г.

Купчиха. 1915 г.

Масленица. 1916 г.

Купчиха с зеркалом. 1920 г.

Красавица. 1915 г.

Московский трактир. 1916 г.

«Много я знал в жизни интересных, талантливых людей, но если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве. Все культурные люди знают, какой это был замечательный художник. Всем известна его удивительно яркая Россия, звенящая бубенцами и масленой. Только неимоверная любовь к России могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такой аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей…» (Ф. Шаляпин).
Автопортрет

Большевик. 1920 г.

Портрет П. Л. Капицы и Н. Н. Семенова.

Портрет Ф. И. Шаляпина. 1922 г.

Портрет Ирины Кустодиевой. 1926 г.
…На выставке осенью 1906 года посетители толпились возле картины «Ярмарка» Кустодиева. Это был совсем небольшой картон. Пространство замкнуто, как на сцене, выражения на лицах не видно, непрозрачная кроющая гуашь лежит плоско, как аппликация. Зато яркость, красочность, декоративность.