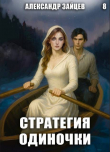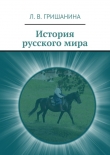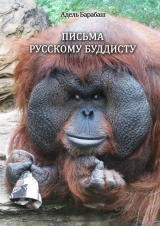
Текст книги "Письма русскому буддисту"
Автор книги: Адель Барабаш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Друг мой, ты говоришь о том, что понимание терминов, употребляемых на семинарах очень важно. Разве термины, придуманные людьми, могут иметь к знанию какое-нибудь отношение? Все термины существуют на плоскости, а знание это объем.
Ты правильно подметил, что «тренинг – это времяпрепровождение…», а вот «расширить сознание» возможно только в том случае, если оно есть:
Не нужно расширять свой кругозор,
плетясь в сомненьях, путаясь в тоске —
великих истин мало – их набор
поместиться на шахматной доске,
от короля до пешки – все про то,
и Гамлет и да Винчи и Гораций —
как мало чистых истин, но зато
как много черно-белых вариаций.
(Д. Барабаш)
Удивительно, но ни Экклезиаст, ни Гомер, ни Шекспир не знали таких слов, как «тренинг», не знали таких словосочетаний, как «путь Тантры», при этом они утверждали, что вся жизнь – это учение. Знали они также и то, что «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы», «…Все вещи в труде», «…Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Что можно назвать развитием человека?
Начав размышлять об этом, посмотрим на ту древность, о которой мы еще можем помнить. Пристально вглядевшись, мы, скорее всего обнаружим, что нет в истории человека никакого прогресса – ни духовного, ни даже технического. Спохватимся, начнём разбираться, вспоминать…
О религии. Как сейчас существуют попы, призывающие людей верить, а не знать, так и раньше были привилегированные шаманские касты, пугающие тайнами тех людей, которые не состояли в их числе. «Верьте!» – говорили они остальным, стремясь испугать их небесным гневом, сломить и поработить несчастных.
Об искусстве. Осколки поэзии и живопись, руины древних театров и масса других свидетельств отыщется под толщей веков. И это уже было под солнцем.
Да и можно ли считать развитием человека технический прогресс. Легендарный Никола Тесла, первый, кому свидетели приписывают открытие беспроводной передачи энергии в любую точку планеты, лечение больных током высокой частоты, а также изобретение электропечей, люминесцентных ламп, электронного микроскопа и пр., отвечая на вопрос журналиста, откуда он получает свои технические и научные откровения, ответил: «Из единого информационного поля Земли». Также он сказал, что все уже создано: «Я только записываю и передаю». Еще он открыл вечный двигатель, и на вопрос о том, откуда берется энергия, отвечал: «Из эфира, который нас окружает». Конечно, люди назвали его сумасшедшим, но «мудрость мира сего есть безумие перед богом». Никола Тесла был еще и поэтом – поэты не пишут стихов – они их записывают: «и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет» (О. Мандельштам).
Так что же создал человек, если все ему было дано изначально? Все развитие человечества с древности до наших дней – накопление иллюзий. Если человек и может назвать что-то своим или созданным им, так это иллюзии. Главные заблуждения, из которых произрастают все прочие, можно перечислить. Что человек может что-то назвать своим, если даже сам себе не принадлежит. Что он может быть создателем чего-то, а тем более чего-то нового. Что он способен познать мир, живя в своей вселенной.
Люди не могут смириться с тем, что они такое же творение, как и шмель, муравей, лист на дереве, вода. Но можно ли представить, чтобы вода заявила: у меня своя вселенная, а муравей сказал: а у меня своя, а бесчисленные листики на дереве зашелестели наперебой: мой путь — путь Тантры, о, я расту, расту, и с каждым днем всё более себя себе открываю, другой — о мой путь иной — и так далее.
Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок (Гомер).
Человеческие трактовки восточных практик, путей, методик плоскостные: люди не понимают образного языка древних пророков и воспринимают их притчи буквально. Многие из слов, которые говорили пророки, люди переврали и исказили.
Возьмем, к примеру, современную трактовку дзен.
«…Основа концепции дзен – положение о невозможности выразить истину человеческим языком и образами, о бессмысленности слов, действий и интеллектуальных усилий в достижении просветления. Согласно дзен, состояние просветления может быть достигнуто внезапно, самопроизвольно, исключительно путем внутреннего переживания. Для достижения состояния подобного переживания дзен использует практически весь спектр традиционных буддийских методик. На достижение просветления могут оказывать влияние и внешние раздражители – например, резкий крик, удар и т. д.»
Нарисуем картину: люди стали просветляться. Они не говорят, не думают, и внутренне переживают – ждут внезапного просветления, а так как на достижение просветления могут оказывать влияние внешние раздражители, например, резкий крик или удар, они время от времени внезапно покрикивают или друг друга бьют.
Идем дальше.
«Тантра – это совокупность практических методов, помогающих расширению человеческих способностей, и, в первую очередь, человеческого сознания. Тантра представляет собой целостный подход к изучению Универсума с позиции Индивидуума; это исследование макрокосма посредством изучения микрокосма».
Как человек, видящий мир на плоскости, воспринимает эту «установку»? Он начинает исследовать свою личность. А личность обратно пропорциональна Богу:
«ведь один из высших принципов нашей духовной жизни – это как раз стирание индивидуальности…»
«…для нас герой и достоин особого интереса лишь тот, кто благодаря природе и воспитанию дошел до почти полного растворения своей личности в ее иерархической функции» (Герман Гессе, «Игра в бисер»).
Чувственные люди назвали высшие состояния во время их творческого процесса – вдохновением. Они могут заниматься творчеством на подсознательном, чувственном уровне. Бог – это мысль. А сотворить богу без сознания бога невозможно.
Или они могут предположить, что создать вселенную можно чувством? Что ж, пусть попробуют чувством создать хотя бы одну травинку или букашку, прищепку или спичку.
Хорошо, что существуют люди, сообщества людей, желающие совершенствоваться до причастности к божественному. Но говорить о постижении Бога чувством? Чувственный опыт присущ детям и животным – они могут дотронуться, понюхать, но Бог не то существо, которое можно почувствовать – постичь его можно только им самим – мыслью.
Может ли познание, сотворившего всю вселенную, быть привязано к какому-то определенному народу, если Будда, Христос, Магомет, Экклезиаст и другие поэты, говорящие с людьми от лица Бога, пишут одну книгу?
Многие ли люди на земле говорили так?
Иисус Христос:
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
Истину ты должен услышать сам, никто ее тебе не откроет.
Ищите и найдете; стучите, и отворят вам.
Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека.
Будда:
Не думайте, что благо ваше может прийти извне. Благо внутри вас и зависит только от вас. Не рождаются волны в глубине моря, там все в покое, не допускайте и вы в себя волн внешнего мира, не стремитесь ни к чему внешнему – и вы будете обладать благом.
Убивая свое тело, мы лишаем разум, наш единственный светоч в этой жизни, возможностей освещать нам путь. О теле мы должны заботиться, а не убивать его, но заботиться мы должны настолько, чтобы ярче горела жизнь разумения, чтобы заботы о теле не мешали разумной жизни.
Чтение Вед, подношение жрецам или жертвоприношение богам, смирение своего тела посредством жары или холода, множество аскез, выполняемых ради бессмертия, – все это не очистит человека, несвободного от заблуждений.
Экклезиаст:
Все суета сует сказал Экклезиаст, все суета.
Все вещи – в труде. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа! Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
Люди не хотят подниматься, трудиться, думать — они пытаются и Бога заключить в рамки своего видения, своего понимания. «Муравьи не считают людей за богов потому, что увидеть могут только палец или край подошвы» (Д. Барабаш). И как же рьяно они отстаивают свои ложь и лень и как изощренно пытаются их оправдать.
Друг мой, раньше я слышала от тебя об обезличенности, отсутствии «я», теперь ты говоришь так: «Главное — мои собственные реакции, мои собственные находки, чувства, мысли, прорывы, осознания. Как только я начинаю практиковать, все, что со мной случается, все, что я в себе открываю — становится моим и только моим».
Много ли открытий ты сделал? Эти открытия касаются только тебя? Насколько значительны твои открытия, если смотреть на них глазами создателя вселенной?
Экклезиаст и пустота
Литературно-критическая пародия
Л. А. Аннинскому
Суета сует, сказал Экклезиаст, суета сует, – все суета
Отчего бы не произнести эти слова человеку, имя которому Экклезиаст, Соломон, Шломо, Шалаем, Сулайман, Иедидия, имеющему семьсот жен и триста наложниц, автору «Книги Екклесиаста», книги «Песнь песней Соломона», «Книги Притчей Соломоновых».
Что делать, когда ни Сталина, ни Ленина, ни перестроек, ни оттепелей, ни советской власти, ничего для поэтической родословной — пустота…
Изначально я без колебаний отнёс бы Экклезиаста к поколению «шестидесятников». Я даже пристроил бы его в когорту поэтов-песенников, но ни сумы ни тюрьмы не приготовила судьба поэту, а потому что-то в моём сознании сдвинуло Экклезиаста с того места, которое он изначально занял. Что-то с его местом оказалось «не так». Да и родился поэт задолго до того, как вождя народов ногами вперёд вынесли из мавзолея и схоронили с глаз подальше.
Тем интереснее понять, каким видит мир человек, которому не досталось в наследство ни безжалостная Советская власть, ни её руины, ни сверкающий в будущем Коммунизм, ни его химерическая тень, не всемирный смысл происходящего, а пустота на месте смысла… Ему не пришлось рвать душу, меняя власть, как рвали прошлое из сердца последние идеалисты – «шестидесятники» (не говоря уже об окопниках 1941 года).
«Суета сует, все суета» скажет Экклезиаст, и в словах его колючей проволокой проступят и 400 лет египетского плена и сорокалетнее странствие по пустыне, отвоевывание земли, резня чужих, резня своих, Бог рядом и Бога нет.…Если Бога нет, то и ничего нет, а если он есть, пустота исчезнет? Боюсь, что нет.
«Все вещи в деле» говорит Экклезиаст. А если дел нет? И никаких вещей? Если все вылетело в суету и в томление духа, и будет вылетать дальше?
Итак, ни дел, ни вещей, ни второй мировой, ничего! Пустота…
И эту пустоту за спиной, и пустоту впереди не афганцы почувствовали первыми, а Соломон, третий царь иудейский.
Поэт продолжает перебирать пустоту – «Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить», но никакая игра ума не может вытеснить страх пустоты, в которую летит все. И за время зацепиться не удастся, потому, что нет ни времени, ни бремени будущего, в котором придется сопротивляться тоталитаризму, революции, социализму. Да что и говорить, если ни в прошлом, ни в будущем нет опоры – одна ледяная пустота, которую надо бы разогнать огневыми залпами русских «Катюш».
Но там, где должны были быть силы на эту безжалостную атаку пустоты – там, где должно было раздаться «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Раздавалось беспомощное поэтическое «Не будь духом поспешен на гнев».
Эти слова похожи на наговор больного. На оцепеневший взгляд, впившегося в пустоту и не желающего ни оглянуться, ни посмотреть в будущее – ведь известно, что там. Спасает мужество отчаяния, ледяная решимость вынести то, что невозможно ни обрисовать, ни назвать, ни узнать. И сильнее ли огневая атака, чем это убийственное безмолвное вперивание в ничто?
Но наговор опустошенной души продолжается: «Суета все и томление духа».
И чем глубже мы проникаем в эту тайнопись пустоты, тем отчетливее зияет в этой поэтической судьбе вопрос: не война ли это? Ведь заметил когда-то основоположник социалистического реализма – сильный драчлив не бывает. И мы тоже стервенели от собственной слабости в 1941, когда все висело на волоске.
И может быть не зря Экклезиаст вглядывался в эту бездну, может быть, видел он там и предчувствовал и расстрел эсеров в Орловской тюрьме, и бессудную казнь военноначальников в Куйбышеве, и пакт Молотова-Риббентропа?
«Суета» — сказал Экклезиаст, – «и томление духа». Тут придется зафиксировать проклятья в адрес Черчилля: для середины советского века он такая же ритуальная мишень, как для 20-х годов – Колчак. От проницательного взгляда Соломона, всматривающегося в пустоту, не ускользнули и эти имена.
«Все суета сует» – продолжает свой монолог иудейский мудрец. Но сокрытый смысл происходящего, если вчитаться в эти строки, глубок и тревожен. На эту тревогу отвечает сквозь непроглядный дым тысячелетий другой Экклезиаст, Николай Тряпкин, родившийся уже при советской власти: «Рыдай же, Израиль! Завидуй паденью Содома! Легка его смерть: он погиб от мгновенного грома».
Экклезиаст молча внимает, осознавая, что кто-то должен ответить за те несчастья, которые обрушились на головы мальчиков Державы.
«Суета и Томление духа»! Вслушались в музыку? Грузинский сын матери-армянки окрашивает свою любовь к ней в русские тона!
«Все суета», уже чеканит Экклезиаст, обезумевший от бытия, начертанного потомкам. Чувствуете, как он проникается верой в романтику Мировой Революции и героику Гражданской войны?
Два с половиной года Экклезиаст в шинели без хлястика и застежек, в будёновке со звездой бродит по Москве, как призрак коммунизма, и проповедует революционную веру, и клеймит отступников, он чувствует, как по нему плачет веревка.
Тут-то его, уже почти «сталиниста», заметают, сажают в кутузку и загоняют в ссылку.
Спустя века, вырвавшись, наконец, из невменяемого советского бреда на другой берег и опившись спасительной американской пепси-колой, он обнаруживает, что «Все суета и томление».
Далее: он плавает со Шмидтом на «Челюскине», скачет с чукчами на собачьих упряжках, работает сварщиком на электрозаводе, комиссарит на фронте с первых дней войны, в нарушение устава участвует в конной атаке, за что сначала отсиживает на гауптвахте, а потом получает чин подполковника.
Откуда пустота духа, которая разверзается, едва тронешь? В этой пустоте, в этом вакууме, в этом ирреальном мире царь иудейский оглядывается вокруг и вдруг спрашивает сам себя: «А я-то кто? Уж Соломон ли я?» – словно не очень ясно чувствует, кто он есть.
Разумеется, пьянство, дебоши, богемщина, сделавшиеся под конец настоящим проклятьем его жизни, подорвали окончательно творческие силы Экклезиаста, но он не отступился, не изменил, и за несколько месяцев до гибели написал: «Все суета и томление духа».
Какая вера в предназначение! И какая верность взятым ориентирам!
Ходили слухи о том, что Соломон спасся, живет и продолжает писать в лагерях, ходили по ГУЛАГу до середины 50-х годов. Были и другие, что на смертном одре, уже всё поняв, из последних сил удерживая на скулах всегдашнюю «соломоновскую» улыбку, он повторял: «Суета сует, все суета».
Уловили паузу, межстрочную пустоту, на мгновенье оставившую нас в невесомости? В это мгновенье душа, опамятовавшись, признается сама себе – да, да, этого ждала! В это время с глаз слетают все миражи, и открывается взору, нет, не пустота, как можно было бы ожидать по чистой логике, но нечто иное – абсолютная пустота.
А с другой стороны бездны, другой советский Экклезиаст, Николай Тряпкин, прощается с отражением и прощает его:
Только тьма и свет, только зверий след
Да песок пустынь у могил.
Остальное все – суета сует
То, что ты да я наблудил.
Прощеный Экклезиаст, испытанный пустотой и знанием всего грядущего, вырывается-таки из нее.
Но мир, изначально очерченный в пустоте, завершился пустотой.
А над пустотой сплетен хитрый, то есть хрупкий узор еврейского быта, который может быть, и есть жизнь?
Платонический спор
Для упорного Платона
виноват всегда Сократ.
Виноват ни как мужчина,
как учитель виноват.
– Прав он всюду, в каждом слове,
что ни фраза – выстрел в цель.
Одержать победу в споре
я хотел, да сел на мель.
Говорил он: «наслаждайся,
женщин пей, цени вино…».
Я решил разбить на части,
не могу любить одно!
– Коротка жизнь для деленья,
каждый миг ее лови.
– Нет, сказал я, ты не знаешь
платонической любви!
Сократовские чтения
Случайные события происходят только с теми, кто их допускает. Человек проектирует свою жизнь. Если он делает это лениво и небрежно, то и жизнь его полна нелепых случайностей и злополучий. Это его выбор. Если человек мыслит, с ним не происходит ничего случайного. Все в его жизни – закономерно и гармонично, потому, что мысль – это постоянный поиск гармонии, стремление к ней. Его будущее предопределено теми выборами, которые он уже сделал, как и будущее каждого человека.
– А разве не может быть так: вышел человек из подъезда, а ему на голову упала сосулька?
Вспомнились слова Булгаковского Воланда: «Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится». И если мы вычислим вероятность падения сосульки на голову, нам станет понятно, что сосулька падает на голову одного из десяти миллионов. Значит вероятность того, что сосулька упадет на голову именно мыслящего человека, составит 1 к миллиарду.
Но смерть настигнет каждого? И здесь никаких вероятностей быть не может?!
Совершенно верно. Но для думающего человека она является не несчастным случаем, а естественным развитием жизни, мысли. И чаще всего он знает, когда уйдет. Знает также, как если бы задумал писать поэму или картину, и, еще не видя вполне ясно деталей, поворотов сюжета или неожиданного мазка кисти, он чувствует ее целиком, как готовое и уже написанное произведение. Или вот такой пример: ты знаешь, что произойдет, если ты прыгнешь с крыши 10 этажа?
– Да. Расшибусь в лепешку.
— А что произойдет, если ты несколько дней не будешь мыть посуду?
— Будет гора немытой посуды.
— Как ты будешь себя при этом чувствовать?
— Мне будет противно.
— И чем больше она будет копиться, тем менее ты будешь находить в себе желание ее помыть?
— Да.
— Если ты перестанешь, как обычно, каждую неделю посещать занятия по музыке?
— Я перестану развиваться, и через некоторое время забуду и то, что знал.
— Если ты соврешь 10 раз, в 11 это будет сделать сложнее или проще?
— Проще.
— Значит ли это, что для человека, солгавшего 100 раз, многократно уменьшится вероятность того, что он станет честным человеком?
– Да это так. Но разве в 101 он не может решить все изменить кардинальным образом и сказать правду?
— Вероятность этого во много раз меньше.
– Скажи, если человек откладывает дела на завтра, вместо чтения и занятий, говорит о том, что нужно учиться и работать, потом устав от тяжких дум, перемещается на диван, и так 25, 35, 45 лет.…Какова вероятность того, что он перестанет лениться?
— На 25, 35, 45 лет меньше.
— Верно. А это треть и половина человеческой жизни. Будучи безответственным и ленивым половину жизни, сможет ли человек резко измениться?
— Если только ему на голову упадет сосулька.
— А вероятность этого как мы помним 1 к миллиарду.
Может ли человек занимающийся музыкой, но тысячи раз выбравший лень или всю жизнь ожидающий вдохновенья, стать Моцартом?
— Ну а вдруг ему откроется… На него снизойдет?!
— Хорошо. Допустим, снизошло.…Хотя если мы высчитаем вероятность.…И вспомним, что гениев было еще меньше, чем мыслящих людей, так как это еще больше ответственности и работы.… Как ты думаешь, как поступит наш герой, не привыкший прилагать никаких усилий, и множество раз выбравший – ничего не делать? Допустим даже, что он решит работать, но пока он будет вырабатывать привычку работать, мыслить, жизнь уже закончится.
– Но бывают люди, которые работают в поте лица, чтобы что-то создать, но у них не получается.
— Значит не с того начинают, значит они плохо продумали свой путь. Скажи, если ты решишь посадить роскошную клумбу, что ты будешь делать?
— Вскопаю землю, посею семена, полью, и дальше буду удобрять, поливать…
— У тебя получится клумба, которую ты представлял?
— Если буду делать все, что должен, то да, получится прекрасная клумба.
— У тебя будет множество беспокойств – ливни, засуха, насекомые, капризы растений…
— Да, но я не оставлю своей затеи.
— В этом случае, какова вероятность того, что твоя клумба будет хороша?
— 90%.
– Все-таки 10 ты оставляешь на волю случая?
— Нет, если приложу все усилия и ничего не упущу – 100%!
— Скажи легко ли посадить клумбу?
— Нет. Нелегко.
— Но если ты все сделаешь, это будет хорошо? Ты будешь счастлив своему произведению?
— Да.
— Есть ли что-то невозможное в твоей затее?
– Нет ничего невозможного.
— Что может стать помехой? Что являлось теми 10 процентами, которые ты оставлял тогда?
— Вдруг что-то не получится.
— Как мы выяснили, в твоей задаче нет ничего невозможного. В этом случае что такое «вдруг»?
— Лень.
— А если так относиться не только к клумбе, и каждый шаг в своей жизни делать на 100 процентов без тех коварных 10, которые, как правило, все 90 сводят на нет?
– Это трудно.
— Но ведь нет ничего невозможного?!
— Нет!
— Ты скажешь мне, что такое случайность?
— Это лень.
— Почему люди допускают случайность и считают ее нормой жизни?
— Не хотят делать то, что могли бы.
— Много ли на свете мыслящих людей?
— Нет.
— Кого выберет сосулька вселенной?
— Лентяя.