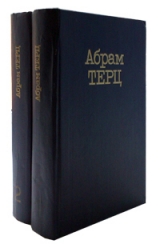
Текст книги "Мысли врасплох"
Автор книги: Абрам Терц
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Терц Абрам (Синявский Андрей Донатович)
Мысли врасплох
Абрам Терц (Андрей Донатович Синявский)
МЫСЛИ ВРАСПЛОХ
* * *
Живешь дурак дураком, но иногда в голову лезут превосходные мысли.
* * *
Как вы смеете бояться смерти?! Ведь это всё равно, что струсить на поле боя. Посмотрите – кругом валяются. Вспомните о ваших покойных стариках-родителях. Подумайте о вашей кузине Верочке, которая умерла пятилетней. Такая маленькая, и пошла умирать, придушенная дифтеритом. А вы, взрослый, здоровый, образованный мужчина, боитесь... А ну – перестаньте дрожать! веселее! вперед! Марш!!
* * *
Жизнь человека похожа на служебную командировку. Она коротка и ответственна. На нее нельзя рассчитывать, как на постоянное жительство, и обзаводиться тяжелым хозяйством. Но и жить, спустя рукава, проводить время, как в отпуске, она не позволяет. Тебе поставлены сроки и отпущены суммы. И не тебе одному. Все мы на земле не гости и не хозяева, не туристы и не туземцы. Все мы – командировочные.
* * *
Если бы стать скопцом – сколько можно успеть!
* * *
Чтобы не было так обидно жить, мы заранее тешим себя смертью и – чуть что – говорим:
– Пусть я умру, плевать!
Вероятно, за эту дерзость, которая видит в смерти выход из игры, с нас крепко спросится. Природа не дает слишком легких концов наподобие ухода из гостей, когда можно взять шапку и сказать: "ну, я пошел, а вы оставайтесь и делайте что хотите". Вероятно, смерть (даже в виде простого физического исчезновения), как и всё на свете, надобно заслужить. Природа не позволит нам капризничать в ее доме.
* * *
Надо так же доверять Богу, как собака – хозяину. Свистни – прибежит. И куда бы ты ни пошел, она, ни о чем не спрашивая, ни о чем не задумываясь, весело побежит за тобой хоть на край света.
* * *
Сидел в ресторане и смотрел по сторонам. Дело было днем, народу было мало, и народ поднабрался всё какой-то случайный, понаехавший из провинции или вздумавший покушать в роскошной обстановке раз в жизни. Мне случайному здесь – было интересно разглядывать этих случайных людей.
На глаза попалась девица, простоватая, в мелкой завивке, с непомерно разинутым ртом. Она громко смеялась, выказывая крупные зубы, непривычно захмелев от сладенького винца. Я смотрел на нее и думал, до чего же она уродлива, и возмущался этим не замечающим себя, самодовольным уродством. Мне казалось, она не имеет права не то что сидеть за столом, но вообще существовать на земле, и как этой девушке не стыдно быть такой безобразной и как она может еще смеяться при своем безобразии?..
И вдруг я подумал, и эта мысль как-то поразила меня, настолько поразила, что я теперь постоянно к ней возвращаюсь, хотя пора бы забыть,– я подумал: "а какое, собственно говоря, ты имеешь право осуждать эту девушку, если сам Бог терпит ее присутствие? Если всем нам, таким некрасивым, ничтожным, Он позволил существовать. Вот мы сидим и презираем друг друга и готовы стереть друг друга с лица земли, а Он, отлично видя всю нашу некрасоту, тем не менее разрешает нам жить, хотя мог бы в два счета прекратить наше развязное, кичливое существование. Какие у тебя полномочия не допускать эту уродку, ежели Он, неизмеримо прекрасный, ее допустил?!"
Это сознание моей неправоты, столь очевидной перед Его позволением, повергло меня в неожиданно смешливое настроение. Я потешался над собою и трясся от тайного смеха, сохраняя внешнее благообразие, потому что находился не один в ресторане, а в приятельской компании. Но
в глубине души я покатывался и хватался за бока, словно чувствовал на себе снисходительный ласковый взгляд. Посматривая на девицу, которая в результате всего не стала привлекательнее, я веселился так, как давно не делал. Но мое веселье в эту минуту не содержало зла и было исполнено благодарности к мысли, которая открыла всё это и тоже смеялась надо мною и надо всеми нами необидным, светлым смехом. И мне до сих пор кажется, что Господь благословил меня тогда на этот смех.
* * *
Искусство – ревниво. Отправляясь от каких-то, ничего не говорящих "данных", оно – силой распаленного воображения – рисует вторую вселенную, где события развертываются в повышенном темпе и в голом виде. Художник должен любить жизнь ревниво, т. е. не верить наличной картине и, отталкиваясь от нее, подозревать за людьми и природой нечто такое, в чем никто другой не догадается их заподозрить.
* * *
– Я был у нее 67-ым, она была у меня 44-ой.
* * *
У меня перегорели пробки. Я очень грустил, считал себя погибшим и просил Бога помочь. И Бог послал мне Монтера. И Монтер Починил Пробки.
* * *
Только когда заболеешь чем-нибудь венерическим, начинаешь понимать, что все люди чисты.
* * *
В сексуальных отношениях есть что-то патологическое. Влекущее отталкивание, сталкивающая притягательность. Это совсем не "кусок хлеба", который хочется съесть. Тут хотение построено на том, что нельзя этого делать, и, чем больше "нельзя", тем сильнее хочется.
Анатомия – элементарна. Но – что за мрак, что за сверкание во мраке?! Женщина, в другое время воспринимаемая как бытовое явление, немедленно приобретает потусторонний оттенок. Из "Людочки", из "Софьи Николаевны" она становится жрицей, руководимой темными силами. В половом акте всегда присутствует нечто от черной мессы.
Само наслаждение, достающееся при этом,– глубже и страшнее обычных плотских радостей. Оно в значительной мере основано на том, что ты совершаешь кощунство. Красивые женщины, помимо прочего, потому имеют успех, что с ними возрастает кощунственность предпринимаемых действий.
Отсюда же – непостоянство, измены. Со строго физиологической точки зрения новый предмет любви мало чем отличен от старого. Но в том-то и весь фокус, что новый предмет заранее кажется "слаще", потому что с ним ты впервые переступаешь закон и, следовательно, поступаешь более святотатственно. Незнакомую Донну Анну ты превращаешь в девку, и особое удовольствие тебе доставляет то, что она "донна" и "незнакомая": "такая чистая, такая красивая, а я с тобою вот что, вот что сделаю!" С нею ты сызнова переживаешь чувство падения, утраченное со "старым предметом" в силу привычки. Повторение там узаконило кощунственный акт, и он перестал казаться таким уж привлекательным. История Дон Жуана – это вечные поиски Той, еще нетронутой, с кем совершить недозволенное особенно приятно. В отношениях с женщиной всегда важнее снять с нее штаны, чем утолить свою природную потребность. И чем эта женщина выше, недоступнее, тем оно интереснее.
По тем же побуждениям, заручившись моральным правом, муж и жена развратничают на законной ниве гораздо изобретательнее случайных прелюбодеев. Чужим хватает того стыда, что они чужие. А любящим супругам кого стыдиться, с кем блудить? Им не остается ничего другого, как нарушать закон в его же собственных рамках и оснащать семейный союз таким бесстыдством, чтобы он имел хотя бы видимость грехопадения.
* * *
В кондитерских магазинах женщины поедают пирожные, не отходя от прилавка. Почему-то мужчины так не делают. А эти – забегут в магазин, точно в уборную, и тут же, в толчее, у всех на виду лопают! Сластены. От маленьких до старух. Смотреть, как они едят – неудобно, что-то бесстыдное угадывается в их позах, жестах, в их кусании, жадном как любовные поцелуи. Полакомится, оботрется и пойдет дальше, своей дорогой...
* * *
Удручает податливость женщин. Есть в этом что-то от нашей общей, человеческой неполноценности.
* * *
Женщины грешнее нас, но лучше нас. Странное ощущение. Но безусловно так: и лучше, и грешнее. Блудница становится праведной, лицемерка искренней, злодейка – доброй, почти не меняя своей женской природы. Для женщины подобные превращения так же естественны, как переход на другую сторону улицы. Остановилась, перешла через улицу и пошла себе дальше, совсем другая и всё-таки такая же самая.
* * *
Почему-то грязь и мусор сосредоточены вокруг человека. В природе этого нет. Животные не пачкают, если они не в хлеву, не в клетке, то-есть опять-таки – дела и воля людей. А если и пачкают, то не противно, и сама природа, без их стараний, очень быстро смывает. Человек же всю жизнь, с утра до вечера, должен за собой подчищать. Иногда этот процесс до того надоедает, что думаешь: поскорее бы умереть, чтобы больше не пачкать и не пачкаться. Последний сор – мертвое тело, которое тоже требует, чтобы его поскорее вынесли. Останняя куча навоза.
В добавление к этому войдем в роль уборщицы, которая за всеми подметает и не может остановиться: нарастут горы мусора. Она воспринимает людей по мусорным признакам: вон тот не вытирает ноги, а эта всегда оставляет дамский легкомысленный сор – шпильки, флакончик из-под духов, затертые, воняющие одеколоном ватки, раскиданные по всему номеру. Дело происходит в гостинице.
* * *
Убийственно уже местоположение секса – в непосредственной близости к органам выделения. Словно самой природой предусмотрена брезгливая, саркастическая гримаса. То, что находится рядом с мочой и калом, не может быть чистым, одухотворенным. Физически неприятное, вонючее окружение вопит о клейме позора на наших срамных частях. Бесстыдство совокупления, помимо стыда и страха, должно преодолевать тошноту, вызываемую нечистотами. Общее удовольствие похоже на пир в клоаке и располагает к бегству от загаженного источника.
Но вот, представьте девку, серую, безответную, которая много работает и терпеливо ждет, когда кто-нибудь с нею хоть побалуется мимоходом. И всё нету случая. Один парень облапил было ее в полутемном клубе, да спьяну отвлекся, забыл и уснул на полдороге, а наутро не вспомнил. Потом какой-то мужик, кажется хромоногий, с деревяшкой вместо ноги, прикидывал жениться на девке, и она опять была согласна, но его не то задавило трактором, не то он уехал и не вернулся. И жизнь у нее проходит в однообразной работе, в тихом недоумении, почему она ни у кого не вызывает охоты, с виноватой улыбкой, что никто не польстился. Спрашивается: разве не лучше было бы ей согрешить, чем тянуть это хилое, незадачливое целомудрие?..
В нашей жизни, в быту идея грехопадения редко дана в своей метафизической оголенности. Тут столько встречается примесей, обстоятельств, мотивов, что всё выглядит куда печальнее и смешнее. Бывает, что человеку некуда приткнуться и он тыкается в бабу, которой ведь тоже нужно как-то себя пристроить. Длинная, скудная жизнь, и ничего нет под руками, кроме срамных частей, которые болтаются, как детская погремушка, и почему бы немного в нее не поиграть заскучавшему человеку? Или для женщины позабавиться с незнакомым мужчиной – всё равно что пойти на новую кинокартину. Здесь даже не всегда присутствует влечение к запретному плоду, к полу, к рискованному удовольствию, а просто – влечение "вдаль", жалость к себе и желание чем-то развлечься, уйти, переменить обстановку, и даже любовь к ближнему, приласкать которого у нас нет других способов. Вся эта тривиальность человеческой жизни не то что снимает или оправдывает грех, но рядом с нею он, взятый в отдельности, как таковой, в своей изначальной мерзости, менее пугает и кажется отдушиной. В нем – конец, преступление, дыра, ад, смерть, то есть всё понятия предельные, максимальные, а тут, в быту, в жизни – тоскливое прозябание, по сравнению с которым сама смерть лучше.
* * *
Человек становится по-настоящему близок и дорог, когда он теряет свои официальные признаки – профессию, имя, возраст. Когда он перестает даже именоваться человеком и оказывается просто-напросто первым встречным.
* * *
Накопление денег. Накопление знаний и опыта. Накопление прочитанных книг. Коллекционеры: короли нумизматики, богачи конфетных бумажек. Накопление славы: еще одно стихотворение, еще одна роль. Списки женщин. Запасы поклонников. Зарубки на прикладе снайпера. Накопление страданий: сколько я пережил, перенес. Путешествия. Погоня за яркими впечатлениями. Открытия, завоевания, рост экономики. Кто больше накопил, тот и лучше, знатнее, культурнее, умнее, популярнее.
И посреди этого всеобщего накопительства:
– Блаженны нищие духом!
* * *
Мы обезопасили себя тем, что поняли свою обреченность.
* * *
Надо бы умирать так, чтобы крикнуть (шепнуть) перед смертью:
– Ура! мы отплываем!
* * *
Хорошо, уезжая (или умирая), оставлять после себя чистое место.
* * *
Господи, убей меня!
* * *
За недостатком жеста, за отсутствием слова, за неимением чего-то лучшего и главнейшего мы останавливаемся на женщинах и делаем им разные нехорошие предложения, чтобы что-то сделать и о чем-то сказать.
* * *
Когда всё тайное станет явным – понимаете? – всё! – то-то мы сядем в калошу.
* * *
Если нам суждено погибнуть от какой-нибудь радиации, это будет вполне логично. Мысль развивается до такого предела, что убивает себя. Но чем виноваты собаки, лягушки – те, кто не хотел развиваться?
* * *
Всё-таки самое главное в русском человеке – что нечего терять. Отсюда и бескорыстие русской интеллигенции (окромя книжной полки). И прямота народа: спьяна, за Россию, грудь настежь! стреляйте, гады! Не гостеприимство – отчаяние. Готовность – последним куском, потому что последний и нет ничего больше, на пределе, на грани. И легкость в мыслях, в суждениях. Дым коромыслом. Ничего не накопили, ничему не научились. Кто смеет осудить? Когда осужденные.
* * *
Пьянство – наш коренной национальный порок и больше – наша идея-фикс. Не с нужды и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном, пьет, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть ее в блаженное бестелесное состояние. Водка – белая магия русского мужика; ее он решительно предпочитает черной магии – женскому полу. Дамский угодник, любовник перенимает черты иноземца, немца (чорт у Гоголя), француза, еврея. Мы же, русские, за бутылку очищенной отдадим любую красавицу (Стенька Разин).
В сочетании с вороватостью (отсутствие прочной веры в реально-предметные связи) пьянство нам сообщает босяцкую развязность и ставит среди других народов в подозрительное положение люмпе-на. Как только "вековые устои", сословная иерархия рухнули и сменились аморфным равенством, эта блатная природа русского человека выперла на поверхность. Мы теперь все – блатные (кто из нас не чувствует в своей душе и судьбе что-то мошенническое?). Это дает нам бесспорные преимущества по сравнению с Западом и в то же время накладывает на жизнь и устремления нации печать непостоянства, легкомысленной безответственности. Мы способны прикарманить Европу или запузырить в нее интересной ересью, но создать культуру мы просто не в состоянии. От нас, как от вора, как от пропойцы, можно ждать чего угодно. Нами легко помыкать, управлять административ-ными мерами (пьяный – инертен, не способен к самоуправлению, тащится, куда тянут). И одновре-менно – как трудно управиться с этим шатким народом, как тяжело с нами приходится нашим администраторам!..
* * *
Как это приятно, когда случайный прохожий говорит "пожалуйста" или "спасибо". И говорит это "спасибо" с таким чистосердечием, точно в самом деле желает тебе спасения. На этой задушевности только и держится мир, в особенности – русский. Какое-нибудь "браток", "папаша", "будьте добреньки". Безо всякой вежливости, но с родственной интонацией.
* * *
Раньше человек в своем домашнем быту гораздо шире и прочнее, чем в нынешнее время, был связан с универсальной – исторической и космической жизнью. Хотя у нас имеются газеты, музеи, радио, воздушное сообщение, мы лишь принимаем к сведению этот всемирный фон и не очень-то им проникаемся, мало о нем думаем. В чешских ботинках, с мексиканской сигаретой в зубах, прочел корреспонденцию о появлении нового государства в Африке и пошел кушать бульон, сваренный из французского мяса. Всё это внешнее, кажущееся соприкосновение с миром носит характер случайной, бессвязной информации: "в огороде бузина, а в Киеве дядька". О том, что в Киеве дядька, мы узнаем по многу раз в день и не придаем этим фактам особого значения. Количество наших знаний и сведений огромно, мы перегружены ими, качественно не меняясь. Всю нашу вселенную можно объехать за несколько дней – сесть на самолет и объехать, ничего не получив для души и лишь увеличив размеры поступающей информации.
Сравним теперь эти мнимые горизонты с былым укладом крестьянина, никогда не выезжавшего далее сенокоса и всю жизнь проходившего в самодельных, патриархальных лаптях. По размерам его кругозор кажется нам узким, но как велик в действительности этот сжатый, вмещаемый в одну деревню объем. Ведь даже однообразный ритуал обеда (по сравнению с французским бульоном и ямайским ромом) был вовлечен в круг понятий универсального смысла. Соблюдая посты и праздники, человек жил по всемирно-историческому календарю, который начинался с Адама и заканчивался Страшным Судом. Поэтому, между прочим, какой-нибудь полутемный сектант мог порой философствовать ничуть не хуже Толстого и достигать уровня Плотина, не имея притом под руками никаких пособий, кроме Библии. Мужик поддерживал непрестанную связь с огромным мирозданием и помирал в глубинах вселенной, рядом с Авраамом. А мы, почитав газетку, одиноко помираем на своем узеньком, никому не нужном диване. И никакая информация нам тогда не нужна. Она для нас – брюки из заграничного материала. Форсим в этих брюках и только. Куда девается весь кругозор, вся наша осведомленность, когда мы снимаем брюки или с нас снимают? Или – когда мы подносим ложку ко рту. Мужик-то, прежде чем взять ложку,– бывало – перекрестится и одним этим рефлекторным жестом соединит себя с землей и небом, с прошлым и будущим.
* * *
Мы обязаны городскому комфорту и техническому прогрессу тем, что вера в Бога пошла на убыль. В окружении сделанных нами вещей мы почувствовали себя создателями вселенной. Могу ли я увидеть Господа Бога в мире, где на каждом шагу мне попадается человек? Глас Божий звучал в пустыне, в тишине, а тишины и пустыни нам как раз не хватает. Мы всё заглушили и заполонили собою и после этого еще удивляемся, что Господь нам не показывается.
* * *
Любая личность противна, если ее много. Личность всегда – капитал, хотя бы он состоял из добродетелей, ума и таланта. "Раздай добро свое..." Христос возлюбил тех, кто был "никем". Да и сам Он разве не был "Никто"? Как личность Он скорее невыразителен (и потому невыразим) и уж во всяком случае нисколько не оригинален. "Личность Иисуса Христа" – звучит кощунственно. Это Личность в обратном, минусовом значении. Христа не назовешь "гением". Гений переполнен собою, гений – капиталист. Вампиризм гения, почитание гениев, начавшееся с Ренессанса, и бескорыстие святости, всегда сияющей не своим, но Твоим, Господи, светом.
* * *
Довольно твердить о человеке. Пора подумать о Боге.
* * *
Теософы боятся слов – "чорт" и "Бог". Они всё опасаются, что их заподозрят в невежестве, и хотят рассуждать по-научному. Такая предосторожность не внушает к себе доверия.
* * *
Почему Христос никогда не улыбался? Не потому ли, что в тюрьме, где сидят приговоренные к казни, смех неуместен?..
* * *
Не исключена такая возможность, что на земле – ад. Тогда всё понятно. А если – нет? Господи, тогда как?..
* * *
Наверное, грешники, сгруппированные в аду по разным классам и партиям, тоже друг другу завидают и друг перед другом важничают. Тот, кого поджаривают на вертеле, потешается над теми, кого вешают вверх ногами. Растут обиды, назревают конфликты: каждому кажется, что ему хуже других. И высокомерие немногих страдальцев (например, педерастов), составляющих особую касту с изысканным способом пытки. И внезапные моды, когда все мечтают попасть в газокамеру, предназначенную детоубийцам, и приписывают себе задним числом несовершенные преступления: все были бы рады убить младенчика, но такового не сыщешь во тьме кромешной. Вечная борьба за первенство в преисподней и споры о свободе, о равенстве и братстве.
* * *
Никак не пойму, что за "свобода выбора", о которой столько толкует либеральная философия. Разве мы выбираем, кого нам любить, во что верить, чем болеть? Любовь (как и любое сильное чувство) – монархия, деспотия, действующая изнутри и берущая в плен без остатка, без оглядки. О какой свободе мы помышляем, когда поглощены, когда ничего не помним, не видим, кроме Предмета, который нас выбрал и, выбрав, мучает или одаривает? Как только мы желаем освободиться (от греха ли, от Бога ли – всё равно), над нами уже властвует новая сила, шепчущая об освобождении лишь до тех пор, пока мы ей всецело не предались. Свобода всегда негативна и предполагает отсутствие, пустоту, жаждущую скорейшего заполнения. Свобода – голод, тоска по власти, и если сейчас о ней так много болтают, это значит, что мы находимся в состоянии междуцарствия. Придет царь и всему этому душевному парламентаризму под именем "свобода выбора" – положит конец.
* * *
Преставьте гения на том свете. Бегает из угла в угол – в аду – и всем доказывает: ведь я ж талантливый!
* * *
Хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг.
* * *
А всё-таки больше всего на свете я люблю снег.
* * *
Иногда (очень редко) умершие снятся во сне совсем по-другому, чем снятся обыкновенные люди. То есть они говорят и выглядят, как живые, но это не сон о прошлой их жизни с нами, а сон о нашей теперешней встрече с ними, вдруг ожившими и пришедшими к нам повидаться. Быть может, они лишь временно приняли прежний облик для того, чтобы нам было легче их узнать и понять.
При виде их мы испытываем радостное удивление и задыхаемся во сне от счастливых слез, от сознания, что все было неправдой и они живы. Мы нисколько не забываем, что перед нами умершие, но их появление происходит как бы в нарушение смерти. Мы страшно волнуемся и ликуем ("не умер! не умерла!") и не хотим ничего другого, как только жить вместе с ними и никогда не расставаться, и обещаем им что-то, и просим, и договариваемся или пытаемся о чем-то с ними договориться. А они – тоже счастливые в эту минуту – почему-то очень спокойны и совсем не волнуются, а только стараются ласково нас успокоить, точно знают больше нашего, точно они сильнее и терпеливее нас. И улыбаются и кивают на наши жаркие речи.
Но вот свидание кончено, и они уходят незаметно, не желая печалить нас проводами и прощанием, уходят оставляя нас спящими в каком-то глубоком и блаженном, детском сне. Когда же мы просыпаемся, на душе у нас тихо и покойно, и сновидение это – в отличие от других, обычных снов – прочно откладывается, укореняется в памяти. От него остается воспоминание, как от действительной встречи. Словно вечность снизошла из хорошего к нам отношения и отпустила на побывку своих домочадцев. Всё, всё, вплоть до старенького, поношенного пальто! Чтобы мы не скучали, чтобы мы не забывали, чтобы нас обнадежить до следующего раза.
Нет сомнений, за время сна они нам успели что-то внушить. Поэтому, проснувшись, мы не маемся, не терзаемся, не рвемся бесполезно вслед за улетевшими образами. Одно лишь грустно: мы не помним в точности, о чем мы с ними договорились, о чем условились, да и смогли ли мы с ними обо всём договориться?..
* * *
Смерть отделяет душу от тела подобно тому, как мясник отделяет мясо от кости. Это так же мучительно. Но так и только так наступает освобождение.
* * *
Засыпая, я всякий раз надеялся, что, пока я сплю, тело мое выздоровеет и наберется сил. И видя, что оно все еще болеет, я снова засыпал до следующего раза. Всё это было так, как если бы я уходил, засыпая, и притом уходил нарочно, для того чтобы дать ему, телу, срок прийти в себя и образумить-ся. Точно у меня с ним были какие-то нелады и споры, и я то уходил, то возвращался, торгуясь и оставляя его в одиночестве с расчетом, что без меня оно лучше сумеет выполнить условия договора и, вернувшись, я застану его в добром со мною согласии. Но оно всё упрямилось, и ныло, и болело, так что хотелось махнуть на него рукой и больше к нему никогда не возвращаться. Пусть делает без меня, что хочет.
* * *
Что тело? Внешняя оболочка, скафандр. А я, может, сидя в своем скафандре, весь извиваюсь...
* * *
Господь предпочитает меня.
* * *
Уж если даже чтение книг – наподобие кражи, то как же не быть немножечко в романтическом духе?
* * *
Господи, Ты видишь – я пьян..
* * *
Какую нежность вдруг испытываешь к куску мыла!..
* * *
Вся моя жизнь состоит из трусости и мольбы.
* * *
Поджидая конец жизни, я много успел сделать. О, как оно медленно, приближение смерти!
* * *
Смерть хороша тем, что ставит всех нас на свое место.
* * *
Верить надо не в силу традиции, не из страха смерти, не на всякий случай, не потому, что кто-то велит и что-то пугает, не из гуманистических принципов, не для того, чтобы спастись, и не ради оригинальности. Верить надо по той простой причине, что Бог – есть.
* * *
Окружающая природа – лес, горы, небо – наиболее доступная нам, зримая форма вечности, ее вещественная имитация, подобие, олицетворение. Сама протяженность природы во времени и пространстве, ее длительность, величина по сравнению с нашим телом внушает мысли о вечном и пробуждает в человеке недоверие к своему ограниченному существованию. А это сочетание в одном каком-нибудь дереве старости и молодости, сложности и простоты, движения и покоя, мудрости и наивности? А эта неизменная смена времен года, ночи и дня, которые, повторяясь, каждый раз отворяют новое? И безразличие природы к добру и злу, безразличие от уверенности, что в конце концов все оказывается добром. Эта всеполнота бытия, предуведомляющая о вечности, позволяет нам, за неимением другого, выхода, бежать на природу так же, как когда-то уходили в монастыри.
* * *
Когда плывешь на пароходе, а вокруг – одно море, начинаешь постигать, что, куда бы мы ни шли, куда бы ни ехали, мы всегда стоим на одном месте по отношению к небу.
* * *
Почему-то предполагается, что завязанное здесь – должно где-то т а м (в будущем или в вечности) распутаться и развязаться. Что последует нам компенсация за наши страдания, усилия, грехи, добродетели. Между тем, возможно, не нам должны уплатить, а мы – плата или возмездие кому-то за что-то. Глядя на мироздание из своего угла, мы принимаем себя за начало и мысленно подбираем себе подобающий конец. Но в мировом балансе мы не исходная точка, а кривая, прочерченная между какими-то неизвестными нам величинами, и потому недостойно требовать в применении к себе справедливости.
* * *
Мы сплавляем свое дерьмо в гигиеничные унитазы и думаем, что спасены.
* * *
Почему становится страшно, когда, обернувшись, видишь на свежем снегу свои следы?..
* * *
Разговор двух старушек:
– ...Ведь пенсии тебе хватает? На одежду не тратишься. Всё – на пищу идет.
– Да, хватает... Правда, я еще кошкукормлю.
* * *
– А муж у тебя есть?
– На ночь муж есть, а так – нету.
* * *
Идет он по лесу. Навстречу – трое, в лаптях. Он подошел к ним и говорит:
– А я вас, братцы, боюсь. Вас – трое, я – один.
– Давай,– говорят они,– мы сядем на травку, чтобы тебе нас не бояться. А ты стань поодаль, шагах в десяти, и будем разговаривать.
Уселись трое и спрашивают:
– Нет ли хлебца? Три дня не ели.
Он отдал им хлеб, какой был у него, и ушел. Потом их поймали и в городе расстреляли.
* * *
Отвернуться, чтобы не видеть. Радоваться, что есть еще кожа, кости защита. Сделать из тела заслон, ходячую баррикаду и прятаться за нею. Если б одна душа – разве мы выдержали бы? Куда душе отвернуться, чем прикрыться? Душа даже не может сомкнуть веки. Всегда на виду. А нам удобно, у нас всё приспособлено. Можем заткнуть уши, уйти в себя. А когда очень плохо повернуться лицом к стене и прикрыться сзади надежной, непроходимой спиною.
* * *
Старуха вернулась из бани, разделась и отдыхает. Сын хотел было постричь у нее ногти на ногах, чудовищные, заскорузлые ногти.
– Что ты, Костя! что ты! Мне помирать пора. Как же я – без ногтей – на гору к Богу полезу? Мне высоко лезть...
Вряд ли старуха забыла, что ее тело сгниет. Но ее представления о Царствии Небесном реальны до земной осязаемости. И свою бессмертную душу она воспринимает реально – с ногтями, в нательной рубашке, в виде босоногой старухи. Подобного рода уверенности часто недостает нашим философско-теологическим построениям. Всё понимается настолько спиритуально, что уже неизвестно: существует ли Господь в самом деле, или Он только символ наших гуманных наклонностей. Дикарь, представляющий Бога в виде кровожадного зверя, менее кощунствует, чем философ-идеалист, подменивший Его гносеологической аллегорией. Христос воскрес буквально, осязаемо, во плоти и предстал как очевидность, вопреки фарисейским абстракциям. Он пил и ел с нами за одним столом и апеллировал с помощью чуда, то есть вещественного доказательства.
* * *
Господи, дай о Себе знать. Подтверди, что Ты меня слышишь. Не чуда прошу – хоть какой-нибудь едва заметный сигнал. Ну, пусть, например, из куста вылетит жук. Вот сейчас вылетит. Жук – ведь вполне естественно. Никто не заподозрит. А мне достаточно, я уже догадаюсь, что Ты меня слышишь и даешь об этом понять. Скажи только: да или нет? Прав я или не прав? И если прав, пусть паровоз из-за леса прогудит четыре раза. Это так нетрудно прогудеть четыре раза. И я уже буду знать.
* * *
Природа прекрасна под влиянием Божьего взгляда. Он молча, издалека смотрит на купы деревьев – и этого достаточно.
* * *
Законы природы – растянутое в пространстве и во времени чудо. Благодаря им снежинки, мамонты, солнечные закаты и другие шедевры творения имеют возможность более или менее длительно существовать, периодически возникать, развиваться, следуя определенной традиции (традиция сохранения энергии, традиция земного тяготения и т. д.). Нарушить традицию может новое чудо, единовременное или тоже устойчивое, закрепленное, как закон, в какой-то иной вселенной, эпохе, периоде.
Божественная космогония ныне превратилась в сюжет юмористики (Господь Бог из бумаги вырезает цветы). Но если к этому сюжету подойти всерьез? Каждый цветок повергает в обморок, в изумление: ведь как сделано! И в каждом семячке, в ничтожной пыльце уже присутствует будущее о двенадцати лепестках.
В природе мы то и дело наталкиваемся на искусство. Горная архитектура, предварившая готику. Лужи и облака, выполненные во вкусе ташизма. В сотворении человека – принципы изобразитель-ности (по образу Создателя и всё же совсем "не то"!). Летающие по воздуху, шмыгающие в траве певцы и музыканты. Смена стилей вместе с наступлением ледников, извержением вулканов. Живой музей, где всё обновляется и сохраняется, где всё, как в искусстве, достаточно реально и достаточно иллюзорно.







