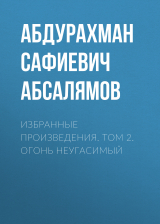
Текст книги "Избранные произведения. Том 2"
Автор книги: Абдурахман Абсалямов
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Абдурахман Абсалямов
Избранные произведения. Том 2. Огонь неугасимый
© Татарское книжное издательство, 2013
* * *

Часть первая
Глава первая
1
На заводе «Казмаш» в Заречной слободе ждали нового директора. Собственно, он должен был приехать в Казань ещё несколько дней назад, но почему-то задержался. Но известно: людская молва, что морская волна – всегда впереди человека поспевает. О Хасане Муртазине передавали такие подробности, что иные из заводских специалистов за голову хватались. Кто-то где-то одним ухом слышал, что у него тяжёлая рука, что нравом он крут. И горяч к тому же. Это якобы и было причиной того, что он не удержался в главке, где занимал крупный пост. Находились и более осведомлённые люди: понизив голос, прикрыв ладонью рот, они под строжайшим секретом сообщали, что Муртазин в Москве проштрафился и послан на периферию в наказанье. «Будет срывать на нас обиду. Ох, знакомы нам такие личности с ущемлённым самолюбием. Не приведи бог работать под их началом. Все кишки такой вымотает!»
Говорили о Муртазине и другое. Будто он незаурядный, немалого опыта хозяйственник, человек с размахом, ясная голова и по характеру кремень, а на «Казмаш» его назначили якобы в связи с новым важным заказом, который завод получил после Сентябрьского пленума.
В большом заводском коллективе нашлись, конечно, и такие люди, которых приезд нового директора особенно не интересовал. Они уже свыклись с частой переменой директоров и относились к этому с полным равнодушием. «Поживём – увидим», – говорили они.
Шофёр директорской машины Василий Степанович Петушков, успевший привязаться к прежнему директору, грустил: у него были свои соображения по поводу назначения Муртазина. «Как знать, понравишься новому, нет ли… Говорят, иные директора, переходя на новое место, перетягивают за собой и своих шофёров».
Ждали Муртазина не только на заводе. Две рабочие семьи в Заречной слободе также ждали его, но совсем по-другому: с радостным нетерпением, как родного, близкого человека, по которому успели порядком стосковаться, ждали без всяких кривотолков насчёт его прошлого. Им, само собой разумеется, лестно было, что Муртазин будет директором того завода, где они работают, где работали их отцы, деды и прадеды. Но прежде всего им дорог был Муртазин сам по себе.
А между тем колесо времени крутилось. Наступила осень. Над Казанью лили беспрерывные дожди. Иногда по ночам в густо-сером, с розовым отблеском от многочисленных огней в небе метались мечи молний, грохотал гром. Вот и сегодня вспыхнувшая в вышине молния осветила белые стены Кремля на холме, его башни, каменные здания. Вот она побежала зигзагами и скакнула к вокзалу, затем заметалась за Новотатарской слободой, над строительством Нового порта. На какую-то долю секунды из мрака возникла ажурная стрела парового копра и часть высокой эстакады. Но в следующее мгновение молния сверкнула уже над центром города. Там, высоко-высоко над домами, будто опрокинули ковш с расплавленным чугуном, и из чёрного небосвода потекла вниз отвесная огненная река. А древний город как бы застыл, поражённый её силой и красотой. Так же внезапно, как возникла, молния погасла, всё вокруг погрузилось в беспросветный мрак. И тотчас же, совсем рядом, словно взрыв крупнокалиберного снаряда, раздался оглушительный грохот.
В том году это была последняя молния в здешних местах. К утру дождь перестал. Закрывая солнце, по бледно-свинцовому казанскому небу бесконечными караванами плыли, клубясь, плотные, разбухшие, точно смоченная вата, облака. Казалось, им не хочется уходить и они оглядываются, где бы незаметно пристать, задержаться. Но сильный ветер, точно сердитый табунщик, гнал их всё дальше и дальше за Волгу… И тучные облака, лениво переваливаясь, меняли не только свои очертания, но и цвет. Становились легче, светлее, вытягивались полосами. Солнце освещало их то сбоку, то снизу, то изнутри. И тогда казалось, что у одних края оторочены золотой парчой, под другими скрыты сказочные дворцы из самоцветов, третьи походили на диковинные заморские горы.
А на земле, под этими медленно плывущими облаками, недвижно дымились бесконечные заводские трубы Заречной слободы – одной из окраин Казани, пылали жаром окна верхних этажей высоких белых зданий, а далеко за ними синеватой волнистой линией вырисовывался в тумане правый берег Волги. Изредка выплывали из-за поворота белоснежные пароходы и, если было тихо, даже слышались их басовитые гудки.
Прошло два-три дня, и серые осенние дни неожиданно сменило бабье лето, расцветив всё вокруг своими поздними яркими красками. В этом году оно долго заставило себя ждать, что богатая, капризная сватья. Зато, придя, так ласково улыбнулось, что сразу забыты были, испарились, точно дождевая вода под солнцем, все обиды и сетования на погоду. Как бы стремясь наверстать упущенное, дни выдавались всё тише и прозрачнее, в воздухе всё больше теплело. Теперь уже небо было чисто, как тщательно промытая тарелка. Ни единой тучки на нём, и даже курчавившиеся, нежнейшей белизны облачка, напоминающие первый пушистый снежок, показывались лишь к вечеру, да и те пугливо жались к горизонту.
Круглый день, торжествуя на весь мир, сверкало золотое солнце. Улицы подсохли. Над многочисленными, заросшими осокой болотами вокруг Казани, над её изумрудными лугами, большими озёрами и маленькими озерками, над поймой Казанки, над просторами Волги, в Лебяжьих лесах по утрам и вечерам стлались белёсые туманы – вестники хорошей погоды. В полуденные часы над склонами Услонских гор струилось марево, походившее на спадающую с неба кисею, и, словно на невидимых крыльях этого марева, из безбрежных полей, из далёких уральских степей летели на слободку серебристые нити паутины. А вчера и сегодня природа и вовсе точно ошалела, сбили её весёлые деньки с панталыку – зацвели по второму разу яблони в Заречной слободе. Правда, цвет был не густой и не пышный, не то что весной. И люди не любовались их красотой, а были как-то даже обеспокоены: чахлый вид безвременно распустившихся цветов, как вид поражённых неизлечимой болезнью людей, навевал неясную тоску и печаль. Казалось, в предчувствии скорой гибели они и сами оплакивали свою короткую бесплодную жизнь. И всё же яблони цвели.
Старый токарь Матвей Яковлевич Погорельцев, выйдя с завода и задержавшись у решётчатых железных ворот, над которыми крупными бронзовыми буквами значилось «Казмаш», несколько минут любовался красой бабьего лета. На душе у него было светло и радостно. Может быть, оттого и этот тихий, медленно угасающий вечер, и заводская, полная в этот час движения улица с растекающимся по ней человеческим потоком, хлынувшим из дверей проходной, и один из корпусов завода, по фасаду растянувшийся на целый квартал, и выстроившиеся вдоль тротуара липы с ещё не облетевшими тёмно-зелёными листьями, и даже взметнувшиеся в небо чёрные от копоти заводские трубы, розоватые под лучами закатного солнца, – весь этот знакомый пейзаж показался ему как-то по-новому милым и родным.
Перед самым концом смены к станку Матвея Яковлевича подошёл его старый друг Сулейман Уразметов – «Сулейман – два сердца, две головы», как повелась за ним слава смолоду.
– Слышал? – весело подмигнул он. – Зятёк-то, ясное солнышко, пожаловал наконец! И понимаешь, с вокзала прямо в обком. Как тебе это, га?..
В голосе Сулеймана сквозь безграничную гордость и весёлое оживление проскользнул едва уловимый оттенок обиды, который мог подметить разве только чуткий слух его давнишнего приятеля.
– Значит, дело есть неотложное, – сказал Матвей Яковлевич.
– Га, дело, говоришь?.. – вскипел неугомонный Сулейман, но тут же сдержал себя и переменил тон на шутливый: – Ну, как там у тебя, а? Старуха ещё не сбилась с ног? – И, смеясь, корявыми пальцами потрогал шею под массивным подбородком: – Першит проклятое.
– Горлышко-то? Ничего, промочим скоро. У тебя поначалу… – в тон ему, тоже со смехом, подхватил Матвей Яковлевич. – Хасан-то Шакирович тебе, небось, зятем приходится, а не мне… Запасся, поди?
– Спрашивай! – раскатисто захохотал Сулейман и уже тише добавил: – Чуть что – сигнал дам, будь готов, как пионер.
В этот момент Сулеймана окликнули с другого конца цеха, – станки ещё не работали, звонкий голос комсорга цеха Саши Уварова пронёсся по всему пролёту. Уразметов заспешил на собрание молодых рабочих, над которыми шефствовал, а Матвей Яковлевич пошёл принять душ. По пути он заглянул в гараж в надежде увидеть там директорского шофёра и расспросить о Муртазине. Однако машины Петушкова в гараже не оказалось, и Матвей Яковлевич заторопился домой – порадовать долгожданной вестью свою старуху.
Но как Матвей Яковлевич ни торопился, свойственная ему степенность не оставляла его. В Заречной слободе, где его знал каждый, прохожие с почтительным уважением здоровались с этим высоким белоусым стариком – рабочим в чёрной кепке, кожаных сапогах и бобриковом пиджаке. Он отвечал на приветствия то кивком головы, то приподымал кепку. Возле сада с распустившимися яблонями он приостановился.
С улицы сад был огорожен дощатым забором, с боков – ржавыми полосами жести в пробоинах после штамповки. В глубине сада стояли две яблони в цвету. Матвей Яковлевич растроганно смотрел на них сквозь решётку. Взгляд его становился всё задумчивее, правой рукой он машинально покручивал седой ус. «Яблони – пусть по ошибке – цветут вот всё же второй раз, а человек… – И слегка усмехнулся и покачал головой. – Так, так, бунтуешь, не хочется стареть, дружище… Бунтуешь против старости… За плечами груз шести с половиной десятков, а душа всё ещё полна мечтаний… всё ещё шалая».
Сзади раздался чей-то шутливый голос:
– Матвей Яковлевич, иль приноравливаешься, как бы нарвать цветов для Ольги Александровны?
Погорельцев оглянулся. Перед ним в сером костюме стоял старший сын Сулеймана – среднего роста, широкоплечий, смуглолицый молодой человек с иссиня-чёрными густыми волосами. Немного раскосые, как у отца, глаза его посверкивали из-под широких бровей умной, с лукавинкой, улыбкой.
Задумчивое лицо Матвея Яковлевича сразу посветлело.
– О, Иштуган!.. Вернулся!.. – радостно протянул он руку. – Жив-здоров? Когда?
– Только что. Переоделся – и на завод, – отвечал Иштуган Уразметов, крепко пожимая старику руку. – Сами-то не болеете? Ольга Александровна как?
– Не поддаётся пока. – И старик, подмигнув, мотнул головой в сторону сада: – Хотя и не цветёт, как эти яблони, второй раз. Я сегодня ей радость несу, Иштуган.
– Премию получил?
– Ага, премию, – ответил старик многозначительно и, слегка улыбнувшись, расправил указательным пальцем усы. – Только не деньгами…
– Неужели приехал? – спросил Иштуган, мигом разгадав причину радостного волнения старика.
– Да, Иштуган… Говорят, уже приехал. И подумать только… – Но, поймав мягко-усмешливый взгляд Иштугана, Погорельцев осёкся: – Да ты, кажись, и не рад?
– А чего мне радоваться, Матвей Яковлевич? – одним уголком рта улыбнулся Иштуган. – Старый директор гонял по всему Советскому Союзу, а новый, чего доброго, и вовсе за границу пошлёт. С Миронычем хоть ругался, а с родственником и ругаться вроде неудобно.
– Ах, ты вот о чём. – Матвей Яковлевич оглядел Уразметова с головы до ног. – Ругаться, значит, пришла охота. Ну, ну, валяй. – Но, встретившись с холодным взглядом Иштугана, переменил тему – с потомством этого горячки Сулеймана ухо держи востро! И спросил: – А как твои дела? Что хорошего привёз?
Иштуган Уразметов, как и Матвей Яковлевич, был одним из лучших токарей завода, но, кроме того, ещё и изобретателем. О его изобретениях областные и центральные газеты писали ещё в сорок девятом-пятидесятом годах. Тогда же и начал он делиться своим опытом. Вначале встречался с токарями родного завода, родного города. Со временем его стали приглашать в другие города, а постепенно и в другие республики. Всё реже стал показываться он у себя на заводе, проводя большую часть своего времени в командировках.
– Мои дела? – переспросил он, и чуть раскосые глаза его загорелись мрачным огнём. – Плохи мои дела, Яковлич. Очень уж формально привыкли смотреть у нас на обмен опытом, – заговорил он, всё больше вскипая. – А новаторство и формализм, как ни крути, что две бараньи головы – в один котёл никак не лезут!
Погорельцев, привыкший видеть Иштугана всегда весёлым, довольным своей работой, на этот раз прямо-таки не узнавал его.
– Случилось что, Иштуган Сулейманович?
– Было такое дело! – махнул Иштуган рукой. – Рассказывать и то стыдно. Выступаю я недавно на одном заводе, о своих приспособлениях толкую, а мне говорят, что на соседнем заводе всё это давным-давно уже внедрено. Так чего же вы, спрашиваю, у своих соседей не побываете? Пошли бы, изучили и внедряли бы их опыт у себя. Сосед соседу не откажет, говорю… Только, оказывается, когда завод другого ведомства, и соседу отказывают. Заводы, видите ли, должны изучать опыт только тех предприятий, которые входят в их ведомство. Слыхали подобную чушь! Поневоле станешь посылать таких вот бездельников, как я, – одного с этого края света на тот, другого – с того на этот. И что же из этой карусели получается? На Харьковском заводе я только начал распространяться о своём изобретении – встаёт один рабочий и говорит: «Наш Силантьич применил это ещё в прошлой пятилетке, нет ли чего поновее?» Что мне было отвечать ему? На правду кривдой не ответишь! Сам видел этого Силантьича. Старик вроде тебя. «Почему, – говорю, – такой ценный опыт держал под спудом?» – «Я, – говорит, – жду, когда наш директор привезёт его откуда-нибудь со стороны. В прошлом году он специального человека в Ленинград посылал за приспособлением Ивана Кузьмича». А этот самый Иван Кузьмич в их же цеху работает и уже два или три года как придумал точно такое же приспособление. Вот и делись после этого опытом!
Матвей Яковлевич покачал головой.
– Вижу, в самом деле переполнилась чаша твоего терпения, Иштуган. Будь на твоём месте отец, он не так ещё расшумелся бы…
– А что толку? – неожиданно усмехнулся Иштуган уголком рта. – Безусловно, когда много ездишь, имеешь возможность и сам кое-чему поучиться. На Житомирском заводе, например, здорово механизировали обработку стержней. А у нас по сю пору вручную дуют. Непременно расскажу Азарину и Акчурину…
Матвей Яковлевич молчал, делая вид, что его внимание поглощено зацепившимися за ветку яблони серебристыми нитями паутины.
По тротуару мелкими шажками приближался к ним невысокого роста круглолицый старик в чёрной шинели и форменной фуражке – вахтёр Айнулла. Протянув обе руки, он тепло поздоровался с Иштуганом, справился, как и полагается всякому степенному человеку, о делах, о здоровье, после чего они с Матвеем Яковлевичем двинулись своей дорогой.
Один шаг длинного Матвея Яковлевича коротышке деду Айнулле приходилось навёрстывать в три-четыре шага. Поспешая таким образом за Погорельцевым, он удивительно походил на бегущего вприпрыжку жеребёнка-сосунка. Туговатый на ухо дед Айнулла при разговоре старался смотреть в рот говорящему, и потому у него вошло в привычку держать голову немного набок, отчего его круглое безбородое лицо выражало обычно неподражаемую смесь лукавства и ласкового добродушия.
– Очень шибко шагаешь, – видно, жена ждёт с пельменями? – спросил дед Айнулла и, склонив голову набок, рассмеялся мелким, рассыпчатым смешком.
Матвей Яковлевич в нескольких словах объяснил, почему он сегодня спешит. Айнулла с большим вниманием выслушал его и сказал, мягко растягивая слова:
– Ба-альшое счастье – принести домой сюенче[1]1
Сюенче – радостное известие, за которое, по народному обычаю, полагается сделать подарок.
[Закрыть], Матви Яклич. Наш покойный отец, бывало, говорил: «Дом, в который не ходят с сюенче, – дом-сирота. Дом, куда принесли сюенче, – счастливый дом, полный радости».
Дойдя до угла, они пожали друг другу руки, и Матвей Яковлевич, прибавив шагу, повернул в переулок. Старик Айнулла смотрел ему вслед. «Вот что делает с человеком радость, – думал он. – Полетел к своей старухе, будто за спиной крылья выросли».
2
Придя домой, Матвей Яковлевич остановился у порога. Ольга Александровна сразу подметила и таинственную улыбку, и многозначительный взгляд и, конечно, не утерпела, тут же полюбопытствовала, что за радостную весть принёс ей муж.
– Сначала, Оленька, выложи на стол подарок за сюенче, тогда скажу, – отвечал Матвей Яковлевич, расправляя седые усы. – Да, да, подарок за сюенче! На этот раз одним обещанием не отделаешься. Знаю я тебя, потом с носом оставишь. – Вдруг старик умолк, прислушался и, понизив голос чуть не до шёпота, спросил: – У нас никого нет, Оленька? – И, не дождавшись ответа, уже по недоумевающему взгляду своей старухи понял, что дома, кроме неё, никого не было.
Матвей Яковлевич торопливо расстегнул пуговицы бобрикового пиджака.
– Посмотри, как упарился… Иду, а сам думаю: что, если он уже у нас сидит… А хозяина и дома нет…
Немного выше среднего роста, с проседью в светлых волосах, лёгкая на поступь, Ольга Александровна давно уже привыкла выслушивать мужа, не перебивая.
Не только девушкой, но и спустя много лет после замужества Ольга Александровна ревновала своего Матвея, хотя он никаких поводов к тому не давал. Правда, чувство это она никогда не проявляла открыто, не устраивала сцен, не поднимала скандалов, чтобы не унижать ни себя, ни мужа, всё переживала глубоко в душе, и только одна знала, как сильны были её муки. Теперь уже пропала острота былого чувства, но всякий раз, как Ольга Александровна встречала с работы мужа, в её начинавших выцветать глазах вспыхивал тёплый свет, щёки покрывались лёгкой краской. Это не мешало ей втихомолку посмеиваться над слабостями своего старика, а иногда даже любовно подтрунивать над ним.
Матвей Яковлевич, оставив пиджак и кепку на вешалке у дверей и обеими руками заглаживая назад свои длинные, совсем уже побелевшие волосы, прошёл в комнату. Дойдя до середины, он остановился, настороженно огляделся по сторонам, – у Ольги Александровны была привычка, спрятав особо дорогого гостя за шкаф или за дверь, неожиданно выпустить его, чтобы тем приятнее поразить Матвея Яковлевича.
Но на этот раз она, остановившись у раскрытой двери, с недоуменной улыбкой наблюдала за странным поведением мужа. Матвей Яковлевич заглянул за дверь, за шкаф и, явно расстроившись, повторил свой вопрос:
– Значит, никто к нам не приходил?
Ольга Александровна отрицательно покачала головой. Тогда, поманив пальцем жену, он почему-то шёпотом сообщил ей:
– Наш Хасан приехал!
– Неужели правда? Один? С Ильшат? Квартиру-то им приготовили уже? – И, не дождавшись ответа, вытирая концом платка повлажневшие глаза, воскликнула: – Ой, какая радость, Мотенька! Сам видел его?.. Разговаривал?.. Когда к нам-то пожалует?
Старик слегка вздохнул.
– Да нет, не смог повидать, Оленька…
– Как здоровье-то его, хоть узнал?.. Благополучно ли доехал?
Матвей Яковлевич не смог ответить и на эти вопросы. Ольга Александровна укоризненно покачала головой.
Занавески на окнах были не задёрнуты. Матвей Яковлевич подошёл к окну, но вместо того, чтобы задёрнуть занавески, засмотрелся на вечернюю, погружающуюся в сумерки улицу. Застыла в задумчивости, прислонившись плечом к дверному косяку, и Ольга Александровна. По её морщинистому лицу катились слезинки. Ох уж эти воспоминания о былом!.. И милы они человеку, и грусть навевают.
Девушкой, до того как выйти замуж за Матвея Яковлевича, Ольга работала на одном с ним заводе формовщицей. Когда искусный гармонист, искусный токарь Мотька Погорельцев, чья писаная красота заставляла трепетать чуть ли не все девичьи сердца, стал гулять с формовщицей Ольгой, это никому из литейщиков не пришлось по душе. Фрол Денисович, старейший литейщик цеха, теперь уже покойный, даже отозвал его в сторонку и, грозя перепачканным землёй толстым пальцем, предупредил:
– Смотри, Мотька! Брось лучше баловать с Ольгой! Такому парню-льву и девушка нужна под стать. Не пара тебе Ольга. Кроткая она. Погубишь ты девушку. А у неё всего и богатства, что девичья честь. Потом кому она нужна? Такой удалец, как ты, Мотька, найдёт покрасивее. А Ольгу не трогай. Послушайся лучше, пока говорим по-хорошему. Не то по-другому начнём разговаривать.
В ответ Мотька лишь скалил в улыбке белые зубы.
– В любви, Фрол Денисович, третий лишний, – отрезал он наконец и пошёл своей дорогой.
Старый рабочий досадливо плюнул ему вслед.
У литейщиков, любивших Ольгу за её трудолюбие, разумность и скромность, были все основания для беспокойства. Как раз в это самое время поползли слухи о том, что трое парней из Заречной слободы: Мотька, Сулейман и Артём, как с ума посходили, – вся тройка разом влюбилась в дочь шкипера, красавицу Галину. Будто закадычные друзья в кровь избивали друг друга из-за этой девушки и даже чуть не нанялись, чтобы не расставаться с ней, тянуть баржи по Волге.
Про бойкую, отчаянную красавицу Галину рассказывали, будто она была правнучкой прекрасной Дуни-атаманши, той самой, что на пороге девятнадцатого века со своим отрядом в глухих лесах на берегу озера Кабан наводила страх на казанских дворян. Другие болтали, что она заблудившийся в России потомок голландского мастера, когда-то работавшего кораблестроителем в Казанском адмиралтействе. На самом же деле обстоятельства её рождения были таковы, что никто не мог бы с уверенностью сказать, чьей дочерью была Галина. Во всяком случае, в характере девушки, лицо которой было подобно сияющей луне, а в крови пылало солнце, затейливо сочетались и некоторые из наиболее примечательных черт прекрасной вольной атаманши Дуни и причуды, свойственные заморскому мастеру. Вдобавок она очень задушевно пела песни, неподражаемо танцевала. И не кто иной, как Мотька Погорельцев, ночи напролёт играл ей на гармонике. Как же было поверить, что после такой девушки Мотька Погорельцев может искренне полюбить какую-то формовщицу Ольгу, которая была настолько застенчива, что не решалась поднять глаза на говорившего с ней человека и краснела до ушей даже от самой невинной шутки. Работавшие вместе с Ольгой женщины предупреждали её:
– Не осилишь ты, Ольга… Не удержать тебе в своих объятиях этого сокола. Погубит он тебя. Не отдавай своё сердце на вечное страдание, не поддавайся его медовым речам. И что хорошего в этом Мотьке? Только что одна красота. Да не реви ты, дура!.. Красота надобна на свадьбе, а на каждый-то день разум нужен. А как раз этого самого разума-то у него и нет. Будь он с головой, разве стал бы ночи напролёт играть этой чертовке на гармонике?
Ольга понимала, что люди хотят ей добра, и всё же не могла принять их советов. Она, как к далёкому ночному эху, прислушивалась к биению своего сердца, а каждый удар её сердца пел о любви к Мотьке.
Дрожа от страха, что идёт, возможно, навстречу своей гибели, Ольга решилась всё же выйти за него замуж. И не раскаялась. С первого же дня они зажили душа в душу. Но никто не верил в долговечность их счастья, в том числе и самые закадычные Матвеевы дружки. Одна Ольга была спокойна за своё будущее. Выйдя замуж, она как-то даже похорошела, стала ещё ласковее, сердечнее.
Постепенно и окружающие начали верить в их счастье. Из друзей Матвея первым склонил голову перед Ольгой Сулейман Уразметов, Сулейманка, который до замужества в грош её не ставил и вечно зубоскалил над «тихоней». Зато отчаяннее всех дрался из-за Галины. Он разглядел в Ольге редкое качество, которого не было в красавице Галине и в очень многих других женщинах, – у неё была щедрая душа и преданное, любящее сердце, способное покорить любого, даже самого отчаянного парня.
Двадцать семь-двадцать восемь лет назад, когда Ольга Александровна впервые увидела Хасана, она работала уборщицей в одном из городских рабфаков. В те годы на заводе не хватало работы не только женщинам, но и мужчинам. Ольга Александровна пошла на первое попавшееся место, а привыкнув, не захотела оттуда уходить. В то время она была худощавой, миловидной средних лет женщиной.
Однажды, то ли в конце октября, то ли в начале ноября, – она только что кончила мыть коридор, – в дверь рабфака вошёл деревенский парень в лаптях и бешмете с тощим мешком за спиной. Вошёл и, растерявшись, замер у порога.
Уже несколько дней моросил мелкий осенний дождь. Улицы тонули в грязи. Ни пешком не пройти, ни на лошади не проехать.
Глянув на лапти, Ольга Александровна только головой покачала. И без того смущённый парень, увидев, как покачала головой, – осердилась, верно, – эта женщина в красном платке, с мокрой тряпкой в руках, испуганно подался назад и, возможно, ушёл бы совсем, скажи она хоть одно недоброе слово.
Но Ольга Александровна спросила спокойно:
– Чего тебе нужно?
Парень ответил, путая русские и татарские слова:
– Моя деревнядан[2]2
Из деревни.
[Закрыть] пришёл… учиться рабфак.
Ольга Александровна постелила тряпку и велела парню хорошенько вытереть ноги. Но разве хватило бы тряпки, чтобы досуха вытереть измочаленные лапти, в которых хлюпала грязь.
И посейчас стоят перед глазами Ольги Александровны узорчатые следы лаптей, протянувшиеся по только что вымытому полу длинного рабфаковского коридора. «Вот и деревня двинулась… В лаптях идут учиться», – подумала она и жалостно вздохнула, вспомнив о чрезмерной робости парнишки. Кто знает, может быть, парень как раз своей застенчивостью и тем, что нуждался в помощи, и расположил её к себе. Ведь сострадание – самый могучий двигатель женского сердца.
Волнуясь, словно за родного сына, Ольга Александровна ждала, пока парень выйдет из кабинета заведующего, но при первом же взгляде на поникшего головой Хасана догадалась, что парнишка получил отказ. И всё же не вытерпела, спросила его.
Парень поднял голову, но был настолько растерян, что даже не ответил. Глубокие карие глаза уже не светились надеждой, как несколько минут назад, – они были полны слёз.
Ольга Александровна, легонько потянув парня за локоть, остановила его и стала расспрашивать. Оказалось, он пришёл в Казань издалека, из-под Мензелинска. У него не было денег на билет, и он две недели шёл пешком.
– Пусть бы только приняли учиться, я бы и на вокзале прожил, – сказал он, краем ладони вытирая глаза.
Ольга Александровна посоветовала парню сходить в обком комсомола. Ободрённый Хасан отправился туда, но на рабфаке так больше и не показался.
Через несколько дней, идя дождливым утром на работу, Ольга Александровна снова увидела Хасана. Он спал на скамейке, в «Саду медного бабая», как запросто называли в Казани Державинский парк, где стоял памятник поэту. Сердце её ёкнуло. Мешочка при нём уже не было. Лицо в синяках, один глаз подбит, бешмет изодран.
Она осторожно разбудила парня:
– Ты чего тут лежишь?
Вздрагивая от холода, Хасан несколько минут растерянно озирался, протирая глаза, затем с улыбкой провинившегося ученика спросил:
– Вы та хорошая тётя?
Хасан рассказал ей, что в обкоме комсомола ему велели зайти на следующий день. Побродив немного по казанским улицам, продрогнув, он вернулся на вокзал. А ночью его ограбили, какая-то шпана утащила мешок, где лежали все его бумаги. Теперь он не знает, что и делать, голова кругом идёт. Ему ещё дома говорили, что один их деревенский работает в Казани ломовым извозчиком. Он пытался найти его, да ничего из поисков не вышло. Никто в деревне не смог дать ему точного адреса этого человека.
Ольга Александровна после и сама удивлялась, как это она решилась тогда взять Хасана к себе на квартиру, почему она сразу поверила ему. Как бы то ни было, с этого памятного дня Хасан Муртазин стал жить у Погорельцевых.
Посоветовавшись, все трое решили, что, если даже и вышлют новые справки из деревни, всё равно поступать на рабфак будет уже поздно. И Матвей Яковлевич порекомендовал Хасану устраиваться пока на завод.
На работу они ходили вместе. Хасан оказался способным, сообразительным парнем, был настойчив, но тщеславен.
В следующем году Хасан поступил учиться, но долго ещё жил у Погорельцевых. Стол у них был общим. Бельё Ольга Александровна стирала Хасану сама и слышать не хотела ни о каких деньгах. Хасан продолжал ходить к Погорельцевым и после того, как перешёл жить в общежитие. Матвей Яковлевич с Ольгой Александровной ничего не жалели, старались делать всё возможное, чтобы облегчить ему вступление в самостоятельную жизнь. «Откуда же ещё ждать парню помощи?» А когда Хасан, закончив рабфак, решил уехать для продолжения учёбы в Москву, они собрали его в дорогу так, словно родного сына провожали в дальний путь. Матвей Яковлевич подарил Хасану своё чёрное осеннее пальто, которое всего несколько раз надевал. «Прилично ли ходить по столице в обшарпанном пиджачишке». Растроганный Хасан сказал:
– Я ведь вам не родственник… Ни сват ни брат… А сколько добра видел от вас. В жизни не забуду!
И пока Хасан учился в Москве, Погорельцевы нет-нет да посылали ему то деньжат немного, то посылочку. В ответ от Хасана приходили тёплые, полные благодарности письма. На последнем курсе он реже стал баловать их письмами. Но Матвей Яковлевич с Ольгой Александровной не обижались на это, оправдывая Хасана тем, что он, бедняга, верно, «головы не отрывает от учебников».
Как раз в эти годы на семью Погорельцевых одно за другим обрушились несчастья. Утонул единственный их сын, которому только что исполнилось десять лет. После того надолго слёг Матвей Яковлевич. Отличавшийся на редкость ровным характером, Матвей Яковлевич после болезни стал беспокоен и раздражителен. И потому постоянное ожидание от Хасана писем уже само по себе превратилось для него в пытку. А письма приходили всё реже и реже. И наконец их совсем не стало.
– Эх, забыл ведь нас Хасан, совсем забыл, Ольга, – горько сетовал он.
Не сказавши мужу, Ольга Александровна отправила Хасану письмо, в котором умоляла написать Матвею Яковлевичу хотя бы несколько строк.
Для неё это было равносильно тому, чтобы просить милостыню. Знай Матвей Яковлевич об этом поступке жены, он не только не обрадовался бы, как ребёнок, письму Хасана, наспех написанному где-то в трамвае, а почувствовал бы себя глубоко оскорблённым подобной жалкой подачкой. Теперь же, ничего не подозревая, он, бедняга, несколько раз читал и перечитывал это коротенькое письмецо и, хотя обычно был очень чуток по отношению к своей верной подруге, не заметил ни малейшего признака той скрытой раны, что оставило это письмо в сердце Ольги Александровны.
Шли дни, складываясь в месяцы. Матвей Яковлевич поправился настолько, что вышел на работу. Писем от Хасана опять не было.
Однажды вечером к ним вихрем ворвался «Сулейман – два сердца, две головы».
Коренастый, широкоплечий, крепкий, как дуб, и горячий, как огонь, раздуваемый в горне, Сулейман, войдя, подкрутил вверх иссиня-чёрные усы и, сильно стукнув кулаком правой, с вздувшимися венами руки по широкой задубевшей ладони левой, воскликнул:








