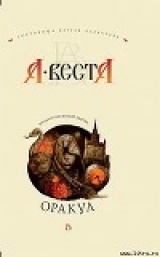
Текст книги "Оракул"
Автор книги: А. Веста
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Мне не дано снимать печать смерти с Железного века.
– Понимаю… Но вы могли бы хотя бы пообещать добыть эту воду для первых лиц государства, для героев войны. Вы получили бы научный штат, лабораторию…
– А вместо этого получу новый срок за саботаж? – продолжил его мысль Гурехин.
– Постараюсь, чтобы этого не случилось, – не глядя в глаза, пообещал Седов.
Пошуршав в ящиках стола, он достал пачку «красненьких», перетянутых аптечной резинкой, и протянул Гурехину:
– Вот вам на первое время. На ваше имя забронирован номер в гостинице «Ленинградская». Сходите в кино, в театр. Навестите родных.
– У меня не осталось родных, – поправил его Гурехин.
– Тем не менее шофер и автомобиль в вашем распоряжении.
– А можно я поеду на метро? – внезапно спросил Гурехин. – Давно хотелось увидеть!
– Как вам будет угодно… – пожал плечами Седов. – Но в этом случае вас будут сопровождать.
– Чтобы я не убежал?
– На этот раз, чтобы с вами ничего не случилось.
Глава 8Тинктура тонкого огня
Алхимик вновь склоняется над печью,
Чтоб превратиться в философский камень.
С. Яшин
23 апреля 1945 г. Замок Альтайн.
Природа равнодушна к делам человеческим: один поворот Земли, и синий цветок уже смотрит сквозь глазницы черепа, а малиновка вьет гнездо в ржавой солдатской каске. Пышнее цветут сады на остывшем пепелище, и всякое живое сердце вновь просит любви.
Замок Альтайн покачивался в тихой гавани весны, как старый, видавший виды фрегат. Сады кипели молочным цветением. Однажды тихим весенним вечером в замок вернулись ласточки. Они пролетели над зоной боев и принесли с собой тревогу и ожидание беды. При полной тишине с яблонь густо осыпались лепестки, а по ночам далеко на востоке вспыхивали и гасли края туч.
Старый мастер все реже вставал с постели. Элиза и розовый фламинго не отходили от него ни на шаг. В тот вечер Элиза хлопотала возле отца. Косые лучи закатного солнца били сквозь тучи ярким веером. За окном, распахнув прозрачные просвеченные солнцем крылья, реяли ласточки.
– Подойди сюда, Элиза, – позвал старик.
Девушка подошла, с удивлением вглядываясь в странный предмет в его ладонях. Это была маленькая золотая дудочка с неровной волнистой линией вдоль широкого края.
– Помнишь сказку о музыканте, который увел в море целую стаю серых крыс? – спросил старик. – Эта дудка сродни его свирели. Подуй в нее, если захочешь избавиться от крыс.
– Но у нас нет крыс!
– В таком случае эта детская игрушка заменит тебе «кинжал чести».
Щеки Элизы порозовели, и она поспешно отвернула лицо от пронзительных и печальных глаз старика.
– А теперь помоги оправить мою постель, чтобы на ней не осталось отпечатков моего тела, я больше не вернусь в эту комнату, – попросил Сандивогиус.
Во дворе старик остановился перед солнечными часами, потрогал концом трости рисунки на постаменте: сердитое солнце в короне лохматых лучей, месяц с длинным печальным глазом, лучистую восьмиконечную звезду и крест из двух косых перекладин. Рядом с ним, скосив глаза, стоял старый фламинго по имени Феникс.
Птица спустилась в подвал следом за людьми. После удара русского танка дверь из мореного дуба оказалась сбита и сорвана с петель, а кладовая завалена трухлявыми стропилами и битым кирпичом, на полу валялись обгоревшие марионетки – остатки кукольного театра мастера Сандивогиуса.
В солнечном луче, падающем сквозь зарешеченное окошко подвала, тускло блеснула бронза. Контейнер, забытый эсэсовцами, все еще стоял на полу. Чтобы передохнуть, алхимик опустился на его плоскую крышку. Подслеповато моргая, он осмотрел цифровой замок, потрогал колесики кончиком палки.
– Откуда здесь этот ящик?
– Его забыли эсессовцы.
– Странное дело, – старик пошевелил колеса замка высохшими пальцами и сказал с печальной усмешкой: – Этот шифр, пожалуй, лучшее, чему мы смогли научить нацистов…
– Вы учили нацистов? – рассеянно спросила Элиза. Она подняла с пола носатого паяца, одетого в зеленую бумазейную курточку и полосатый колпачок, сделанный из старого носка.
– Да, мы пытались повернуть историю на новые рельсы, но даже лучшие из нас забыли, что история – это не локомотив. История, моя милая, – это грандиозный процесс инициации.
– Инициация? Что это такое?
Сандивогиус вынул из ее рук куклу и попытался оживить марионетку при помощи бечевок и обугленной крестовины.
– Помнишь, я читал тебе детскую книжку об этом деревянном мальчике? Ее мне прислали из Росиии перед самой войной. И я удивился, ведь у меня никогда не было детей! Должно быть тот, кто посылал ее, предвидел, что из далекой России ко мне приедет девочка, и я назову ее дочерью по духу. Ты хочешь знать, что такое инициация? Помнишь, как этот пострел разбил яйцо своим длинным носом? Запомни, девочка, разбивая скорлупу неведенья и сна, мы приступаем к инициации. В человеке пробуждается бессмертное зрение, и то, на что раньше уходили годы, происходит мгновенно.
В мире есть запретные кладовые, где хранятся книги, писанные на камнях, на золоте и на мягкой глине, на деревянных дощечках и воловьей коже, на папирусах и бересте. Так древние передают нам свои ключи от духовных таинств. Прикоснувшись к этому знанию, мы навсегда покидаем тесную скорлупу материи и выходим в духовный космос. Наше братство тысячелетиями хранило ключи, но ради спасения мира мы вышли из заточения.
Мы обучили нашим знаниям сильных мира сего. Мы думали, что несем миру свет пробуждения: лучи любви, красоты, силу и понимание. Мы прошли по дорогам мира, не запятнав наших белых одежд, но в костре этой войны оказались и наши поленья.
– Кто вы?
– В разные века нас называли по-разному: волхвы, гностики… Но мы, скорее, тайные учителя, «соль земли».
– Как в Евангелии? – с робкой надеждой спросила Элиза.
– Да, и заметь, это вполне алхимический термин, – через силу улыбнулся старик.
Сандивогиус оставил марионетку на крышке бронзового ящика и, опираясь на руку Элизы, спустился в подземелье.
– Зажги факел, дочка, – попросил старик, – впереди у нас спуск в могилу и моя последняя тайна.
Элиза послушно вынула факел из кованого шандала и чиркнула огнивом. Ступени уводили все ниже, в древний склеп, где стыли в вечном холоде и мраке гробницы прежних владельцев замка. Фламинго бесстрашно следовал за людьми, осторожно переставляя ломкие лапы и постукивая клювом о гулкие камни. Одной рукой Элиза поддерживала отца, в другой держала пылающий факел. Внизу старик попросил Элизу зажечь еще несколько факелов вдоль стен.
Девушка огляделась: она впервые была в этой части подземелья. Потолок поддерживали колонны из пурпурного гранита. Старинные литые надгробия изображали спящих рыцарей и благородных дам с молитвенно сложенными на груди ладонями. На боку у рыцарей поблескивали двуручные мечи. В ногах у дам дремали собачки-левретки. Основатель замка, рыцарь, одетый в змеиную чешую, одиноко лежал в самом дальнем конце усыпальницы.
Здесь, в каменной нише, стояло большое белое яйцо, отлитое из тонкого фарфора. На гранитном цоколе виднелась странная эмблема: роза, вписанная в равносторонний четырехконечный крест, ниже по четырем сторонам располагались рисунки, похожие на те, что были выбиты на постаменте солнечных часов во дворе замка.
– «Роза и Крест» – эмблема нашего братства, – пояснил Сандивогиус. – Роза – символ науки и сокровенных тайн Природы, исконно женственный знак. А крест несет всякий, вступивший на путь познания и света. А теперь помоги мне.
Девушка, недоумевая, сняла крышку с фарфорового яйца.
– Ну вот и славно, дочка. Не пугайся и не думай, что я выжил из ума. Сейчас я лягу сюда, а ты закроешь крышку и уйдешь. Через сорок часов от тела не останется и следа, а в этой скорлупе зародится и окрепнет новая, крылатая жизнь. Я уйду путем древних мудрецов, путем Иешуа Бен Пандера. Его опечатанная гробница тоже оказалась пустой. А теперь не робей! В этом яйце нет ничего страшного.
– Отец, не уходи! Я почти ничего не знаю! Твое знание погибнет!
– Нет-нет, – старик собрал в ладонь ее пальцы и слабо пожал их, – оно не погибнет. Ты – дочь северной богини, а значит, знаешь гораздо больше меня. Знает твое сердце и твое тело, знает каждая капля твоей первозданной крови. Если ты встретишь человека с ярким и спокойным взором мудреца и он ответит на пароль, ты передашь ему ключи от рая и мои гримуары.
– Какой пароль, отец? – Элиза погладила бледную, почти прозрачную старческую руку.
– Ты протянешь ему зернышко «говорящей яблони», и оно прорастет на его ладони. Все, что рассказал мне ледяной кристалл, я записал и укрыл в тайнике под солнечными часами. Астрономические часы, с символами солнца, луны и звезд раскиданы по всему земному шару. Они – тайники нашего ордена…
– А если этот человек не придет?
– Тогда им суждено лежать под спудом, пока у людей, отыгравших в детские игры, не проснется инстинкт знания .
– Ты не можешь умереть! Отец! Твоя амброзия дает бессмертие, почему ты не выпьешь ее? – она все еще пыталась удержать отца на краю странного фарфорового гроба.
Сандивогиус погладил ее по волосам:
– Я прожил достаточно и нахожу, что с течением времени мир меняется не в лучшую сторону.
– Хотя бы один глоток, отец!
– Нет, моя милая. Пока я жив, тебя не оставят в покое. Этот бравый штурмбанфюрер обязательно вернется. Берегись, в его глазах танцует смерть! Без меня тебе будет легче на время покинуть «Логово змея».
– А как же наш «Райский сад»?
– Да-да. Странно, я совсем забыл о нем, – старик задумался, шевеля губами, словно подсчитывая наследство: – Подземный Эдем я передаю тебе.
– Я буду хранить его, отец. Я никогда не покину Альтайн!
Старик покачал головой. Он дышал все тяжелее и реже, и его лицо словно покрывалось тонким стеклом.
– Нет, Элиза, – едва слышно прошептал он, – очень скоро ты уйдешь в холодный и дикий край, такой далекий, такой суровый…
– Это будет Антарктида? – с ужасом спросила Элиза.
– Нет, моя девочка, нет…
Сандивогиус задыхался, по щекам и бороде катились слезы, словно жизнь покидала его вместе с этой живой теплой влагой.
– Умереть в день и час рождения – это удел избранных, – шептал он, силясь улыбнуться. – Не стоит длить мои мученья, дитя, сделай это…
Ослепнув от слез, Элиза задвинула крышку. Удивленный Феникс застучал клювом по сомкнувшейся скорлупе. В подвижном пламени факелов его блекло-розовые перья полыхнули огнем.
Глава 9Пахари войны
Сколь блаженны те народы,
Коих крепкие природы.
Старинная песня
25 апреля 1945 г. Москва, Белорусский вокзал.
Солнечным апрельским днем по крытому перрону Белорусского вокзала шел бравый молодой боец. Из-под пилотки выбивалась золотистая прядь. Солнце дробилось в начищенных до блеска голенищах, а натертые мелом пряжки и выстроившиеся в ряд золотые медали пускали солнечных зайцев. Оценив обстановку на вокзальной площади, он решительно направился в сторону буфета, но завернул не в солдатскую столовую, а в офицерский ресторан.
Прежде чем войти в зал, он поправил ремень перед большим туманным зеркалом, огладил гладко выбритый затылок и прислюнил пышный чуб.
– Здравствуйте, красавица, – окликнул он первую же официантку, спешащую с заказом. – Старшина Славороссов, только вчера с передовой.
– Очень приятно… – официантка капризно поджала губки, подведенные алым сердечком.
– Гм… – замялся солдат. – Скажите, уважаемая, а «туры-руры» у вас есть?
– Какие такие «туры-руры»?
– Ну, непонятно, что ли?..
– Непонятно! – отрезала официантка.
– Ах, вы, видно, фронтового языка не знаете? Ну, вино хорошее? Ну, девушки… патефон…
– Так бы и сказали… Нет!
– Тогда вместо «туры-руры» дайте борща и киевских котлет штуки четыре, – упавшим голосом попросил солдат.
В окнах ресторана мелькнули алые повязки патруля. Скрипнула дверь, и в зал вошли трое красноармейцев. Наряд сопровождал молоденький офицер в очках.
– Старшина, что вы делаете в офицерском ресторане? – окликнул он чубатого.
– Гвардии старшина Харитон Славороссов! – отрапортовал тот. – Вот документы. – И он уже потянулся к карману, но молоденький офицер остановил его жестом:
– Обедайте! – разрешил он, отводя близорукие глаза от блеска боевых наград.
После обеда бравый солдатик, не мешкая отправился в комендатуру. Он был вызван с фронта срочной телеграммой, предписывающей ему явиться в особый отдел при Московском округе. В комендатуре после короткой беседы его направили в особый отдел при штабе Московского округа.
В коридоре у дверей начштаба «загорал» высокий, тощий шпак.
– Гурехин? Заходите! – окликнул из-за двери ординарец.
Услышав свою фамилию, шпак вздрогнул и, согнув плечи, вошел в кабинет.
Через минуту вызвали Харитона.
– Ну вот и все в сборе… – прогудел особист, высокий, рыжеватый, крупного калибра мужик, и вкратце объяснил суть предстоящей операции.
– Есть доставить в замок Альтайн по территории, занятой врагом, – отбарабанил Славороссов, выслушав задание.
– Ну что ж, принимайте командование, Вениамин Борисович, – сказал особист.
Харитон обернулся и не сразу заметил щуплого большеголового человека в сером френче. Он сутулился за широким, залитым чернилами штабным столом и почти сливался с ворохом картонных папок на столе начштаба.
– Капитан Нихиль, – без особого энтузиазма представился тот, продолжая читать циркуляр.
Глядя на рыжеватого капитана, Гурехин припомнил, что уже видел его накануне в политотделе округа, но не предполагал, что придется сойтись так близко, и отчего-то сразу томительно заныло под ложечкой, словно рядом с Нихилем ему не хватало воздуха.
Нихиль был, пожалуй, ровесником Гурехина и тоже носил маленькие очки с плоскими стеклышками. Желтые глаза навыкате смотрели немного в стороны, но цепко и подозрительно, и этот большеротый и нескладный капитан явно чувствовал себя хозяином в кабинете начштаба.
Капитан Нихиль остался при штабе, а Славороссов и Гурехин с целой кучей разноцветных бумажек отправились в политотдел для дальнейшего оформления.
– Ксаверий Гурехин, – шпак протянул Харитону узкую ладонь.
Харитон мрачно окинул взглядом своего нового командира и ответно протянул руку. Пожатие шпака оказалось неожиданно сильным и горячим, словно в его малохольном теле пряталась печка, и с души у Харитона немного отлегло, точно они успели подружиться и сполна узнать друг о друге через это короткое, живое пожатие.
В политотделе перечитали их бумажки и отправили в хозяйственную часть, там проверили командировочные, но этого оказалось мало – нужно было еще взять специальное отношение из политотдела о том, чтобы Гурехина приняли на довольствие.
– Эх ты, горе луковое, и фамилия у тебя такая же… – обескураженный и злой, Харитон бросился обратно в политотдел за отношением, но выяснилось, что еще нужна гербовая печать.
До вечера Славороссов и Гурехин ожидали начальника хозчасти, изнывая под натиском ранней жары: бюрократы из штаба округа заявили, что нужны еще и аттестаты на все дни их командировки, о сроках которой ни тот, ни другой не имели ни малейшего понятия.
– Тыловая сволочь, – цедил сквозь зубы Харитон, – на передовую бы их, чтобы землю зря не засирали.
Наконец они получили аттестаты, командировочные удостоверения и отношения и плюс талоны на питание в офицерской столовой. Их предстояло обменять уже в столовой на другие точно такие же, только синие. На складе Гурехину выдали офицерское снаряжение: шинель, гимнастерку, галифе, фуражку, портупею, командирский свисток и красноармейскую книжку без записей. На вокзале Гурехину и Славороссову выписали транспортные предписания, и они побежали искать эшелон, идущий через Польшу на Берлин.
На платформе проводили построение. В напряженной тишине политрук зачитывал сообщение о новом поражении немцев под Берлином.
– Вот, наверно, старается теперь повар Гитлера, всякие вкусные вещи готовит, а у Гитлера аппетиту нет! Мучается повар!!! – крикнул паренек в гимнастерке и белом замызганном фартуке, должно быть, сам повар, и бойцы захохотали, подталкивая друг друга локтями. И Гурехин впервые за много лет засмеялся открыто и радостно, морща нос и растягивая потрескавшиеся губы, чувствуя непривычную боль от этой счастливой гримасы.
Эшелон шел на Франкфурт, в кровавое месиво последних боев, но со стороны казался свадебным поездом. Целые кусты и деревья были привязаны к арматуре вагонов для маскировки. Поезд двигался медленно, задевая ветвями за станционные фонари, цепляясь за встречные вагоны. Деревья, полные весенних соков, зацвели под дождем, и казалось, что веселый, зеленый бульвар, изгибаясь и плавно покачиваясь, с вальсами и смехом, плывет по рельсам. Эшелон шел сквозь ночь, окутанный зеленью, дымом и тополиной смолой. Мудрая, неукротимая сила вела его на запад. Восторг движения захватил Гурехина, ему мало было ехать в этом весеннем веселом поезде, ему хотелось ходить, заглядывать в лица людей, молча стоять рядом и жадно слушать их громкие, смелые голоса. В теплушках возвращались на фронт подлечившиеся в госпиталях, и спешил понюхать пороху последний фронтовой призыв, зеленая необстрелянная молодежь. Кто-то спал, распластавшись на полу теплушки, кто-то танцевал под гармошку на открытой платформе. Дымила полевая кухня. Девушки-бойцы с первыми цветами в петлицах гимнастерок улыбались Гурехину. Свесив ноги с покачивающейся платформы, гармонист наяривал фронтовую песню:
Синенький скромный платочек
Фриц посылает домой…
И добавляет несколько строчек…
– А у нас в пятой гвардейской такой гармонист был, что когда он на передовой играл, немцы стрельбу останавливали, – сворачивая козью ножку, рассказывал пехотинец. – Мы под его игру в разведку ходили…
Бойцы, сидевшие на открытой платформе, вдруг засвистели, загоготали. Высоко, на телеграфном столбе, сидела женщина, вцепившись «кошками» в ствол и, как вожжи, натягивала поврежденные провода. С поезда успели рассмотреть только ее красную юбку и ярко-синюю косынку.
– Нет, сдохнет Гитлер, а с нашей русской силой не совладеет, – кричали на платформе.
– Уже сдох!!!
– Хороший народ едет! – заметил сочный голос за спиной Гурехина. Это был рослый увешанный медалями пехотинец. Лицо казалось смуглым по сравнению с белой, выглядывающей из-под воротничка шеей. И лишь присмотревшись, Гурехин понял, что это не «цыганский загар», а пороховая пыль и фронтовая земля со всей Европы, въевшиеся глубоко в кожу.
– Предатели уже предали, трусы погибли, скептики увяли, – продолжил пехотинец свой монолог, вроде бы и не обращенный к Гурехину, но нуждающийся в слушателе. – Остались в армии те, кто дошел до Победы геройски. И молодежь эта уже никогда не узнает вкуса поражения!
– Не успеет… Такие гибнут в первую неделю: два к трем. Слыхали, как сопротивляется Гитлер на Целлендорфском направлении? – напомнил знакомый с картавинкой голос.
Гурехин обернулся: сопровождающий и вправду сопровождал его, незаметно следуя за ним по всей длине поезда.
– Вы, товарищ , кажется, впервые на фронт едете? – ядовито спросил Нихиля пехотинец. – Так откуда знаете, кто погибнет, а кто выживет?
Сопровождающий поежился от зябкого встречного ветра и ничего не ответил.
Ближе к ночи Нихиль получил добро от начальника поезда на обустройство всех троих в почтовом вагоне. На тюках можно было сносно выспаться до самой Польши, но Гурехину не спалось. Рядом на полотняных мешках с фронтовой почтой ворочался Славороссов.
– Веселая у вас фамилия, Харитон, – шепотом заметил Гурехин. – Откуда такая?
– А пес ее знает. Я сирота, должно быть, в приюте дали.
– Летчик был такой, еще при царе, на «этажерке» в Америку летал, – подал голос Нихиль.
– О как! А я думаю, в кого я такой уродился? – обрадовался Харитон. – Мне что конь, что танк, лишь бы скорость. Две зимы с конем в обнимку спал, а потом с ходу принял на себя командование танком. До войны-то я трактор водил, а танком еще не разу не командовал.
– Так прямо сразу и на танк? – усомнился Гурехин.
– А чего тянуть? Дело было зимой в степи под Моздоком. Немцы многоярусную оборону на высоте заняли, а внизу в балке застрял наш танк не то подбили его… В дыму я на него и наткнулся. Крышка с башни сбита, заглядываю в люк: там двое танкистов сидят, понурив головы. Один у руля, другой за ним. В темноте не понять: то ли спят, то ли убиты…
– Живы, братва? – кричу им в люк. – Чего приуныли?
Глаза поднимают, а в глазах – слезы стоят.
– Что с вами, орлы боевые?
– Да вот командира нашего убило… Такой парень был!
– Эге, плохи дела, стало быть? А давайте я буду у вас за командира!
Прыгаю в танк, сажусь на командирское место и командую:
– Вперед, братва, дуй полным! По позициям неприятеля огонь!!!
И веду их прямиком туда, где у немцев оборона послабже. Пролетели мы через ров, через минное поле, через заграждение, по пулеметным гнездам, с яруса на ярус скачем. Я на башне из пулемета строчу. Ранило меня, но наши заметили в тылу врага бешеный танк, решили, что гитлеровец с ума сошел и на нашу сторону перейти решил. Потом в бинокль глянули. Мать честна! На броне – звезды, люк болтается. Дали команду штурмовать высоту и через час выбили немцев. На командном пункте тотчас решили наградить наш замечательный экипаж, а когда разобрались, судить меня хотели за самоуправство, но потом простили и в танковое училище направили…
Харитон умолк: почтовый вагон был прицеплен в самом конце поезда и его сильно мотало. Было слышно, как по-лошадиному всхрапывает во сне Нихиль и шуршат от толчков фронтовые письма.
В Белоруссии состав подолгу простаивал на полустанках. В Столбцах Гурехин пропал. Уже был дан сигнал к оправлению, когда Харитон разглядел его на крыше сгоревшего сарая. Гурехин, пользуясь минутой, смастерил скворечник из футляра от немецкого противогаза, проделал сбоку треугольную дырку и теперь прикручивал свое творение к обгорелой березе. Вопли и выстрелы согнали Гурехина с крыши, и он долго бежал за поездом, прежде чем Харитон сумел втащить его на платформу.
– Загадочный вы для меня человек, – выговаривал спасенному Харитон. – Вот не пойму я, дурак вы или умный, но чувствую, что человек рядом хороший и с вами бы я в дело пошел. А вот сопровождающий ваш – та еще морда… – Харитон замялся, не решаясь высказаться до конца.
– Да такой же я человек, как все, Харитон. Только природу жалею и этим от многих отличаюсь. Слушаю ее, смотрю и, поверишь ли, Бога вижу.
– Нетути нигде вашего Бога, капитан Гурехин. Пустое балакаете, – обиделся Харитон. – Я вот, к примеру, совсем без Бога живу. Хотите загадку загану:
Два раза родился
Ни разу не крестился,
А про него говорится,
Что его даже черт боится!
– Это ты, что ли, Харитон?
– Петух это, голова садовая!
– Ладно, Харитон, я тебе тоже загадку загану. Ты, к примеру, молоко пил?
– Ну, пил.
– А масло видел в нем?
– Нет.
– Вот так же и Бог рассеян в природе. Для меня, Харитон, в мире нет ничего неживого, а все живое – Бог.
– Странное толкуете, какое-то не наше и вражеское даже.
– Да я и есть тот самый «враг», – с улыбкой сознался Гурехин.
Через Брест и Польшу поезд шел без остановок, оглашая станции ревом и свистом. На Франкфуртский плацдарм они прибыли на следующий день, и все трое поступили в распоряжение фронтового отдела войсковой разведки.
В Магдебург решено было прорываться на самоходной артиллерийской установке САУ-152 образца 1943 года, в просторечии «Сашке». Расстояние марша было ограничено количеством соляра, которое мог взять с собой экипаж, бак на триста литров горючки был приторочен за башней по правому борту, слева была приварена столитровая канистра с маслом. Этого количества хватало в обрез, малейшая заминка – и обездвиженная самоходка замрет, не дойдя до цели, но ни один приказ не мог отменить фронтовой фарт, в который безоговорочно верил Харитон.
– Экипаж у «Сашки» почти вдвое больше, чем у танка – аж шесть человек; правда, скорость невелика, но лоб крепкий – противотанковая не возьмет, – агитировал за «боевую подругу» Харитон. – Разве, что из миномета жахнут, так «Сашка» из огня вынесет, как есть умнющая стерва! – с чувством говорил он, оглаживая броню самоходки.
Будущий командир танка тотчас же пропал в гараже. Вместе с ремонтниками он заливал масло и газойль в баки на бортах и смазывал ходовую часть. Оказалось, что он влюблен в «Сашку» аж с Курской дуги.
Самоходку я любил, в лес гулять ее водил,
От такого романа роща вся поломана!
Дребезжал в гараже знакомый тенорок.
– Изголодался, фраерок, – подмигнул Гурехину пожилой механик, мобилизованный на фронт по тюремной амнистии.
Тем же вечером Харитон был замечен с большим букетом черемухи.
– Уж не к самоходке ли спешит ваш Санчо Панса? – ехидно поинтересовался Нихиль.
Он почти не отходил от Гурехина и лишь поздним вечером, когда сопровождающий уходил на доклад, Гурехин ненадолго исчезал из расположения части.
Сегодня в оттопыренных карманах его френча лежал хлеб, тщательно завернутый в вощеную бумагу, и узкий брусок сала, а в кармане галифе подпрыгивала фляжка с молоком.
На пороге крайнего блиндажа белел приметный букет черемухи. Цветы стояли в стреляной гильзе от фаустпатрона. На «завалинке» рядом с блиндажом собрались все свободные от нарядов бойцы.
– Ох люблю разведку! М-м-мамочки мои! Все отдам! – рассказывал некрасивый солдатик в широченных галифе и гимнастерке с расстегнутым воротом. Он залихватски сплюнул и затушил окурок о подошву сапога.
– Женька, расскажи, как фрица задавила? – подначил кто-то из бойцов.
Гурехин остановился, во все глаза разглядывая солдатика. Это была легендарная Женька, настоящая сорвиголова, в одиночку приводившая здоровенных языков.
– Ну слухай, хлопчик, – согласилась явно польщенная Женька. – На Украине дело было, на освобожденной территории. Заходим в хату. «Тетка, – спрашиваю у хозяйки, – немец е?» А она меня за парня приняла:
– Нету, желанный мой, нету…
А на печи лежит немец в одном белье и по-русски калякает:
– Это рус!!! Немец нет!
«Ах ты, гад!!!» – тут я ему мозги по стене и размазала…
Бойцы хохотали, а Женька уже слюнявила новую самокрутку. Вся она была слеплена из острых углов и даже подстрижена под мальчика с коротким потным чубчиком на темени. Она и вправду выглядела коренастым некрасивым солдатиком с мужской привычкой курить, держа при этом руки в карманах, ругаться на чем свет стоит и пить спирт из фляги. Бритый затылок и галифе обманули бы кого угодно, и только несколько крупные бедра выдавали в ней женщину.
Гурехин ушел, пошатываясь, как слепой, не умея сладить с тем, что внезапно понял и почувствовал. Война так и осталась для Женьки азартной игрой с жестокими правилами, и женщины в этой игре были грубее и жестче мужчин.
При штабе дивизии был устроен концентрационный лагерь для пленных. Их скопилось не меньше трех тысяч. Каждый день их брали сотнями, уже оглушенных, обалдевших; извлекали из земли, как кротов, расслабленных, распластавшихся, безжизненно прикрывших глаза. Сдавшихся в плен сгоняли на пустырь, в отгороженную колючей проволокой закуту, как пыльное молчаливое стадо. Гурехин зачем-то постоял у проволочной загородки, вглядываясь в серые, точно из пепла, лица.
Сельская окраина Франкфурта была начисто сметена авианалетом союзников. Среди пепелищ торопливо пророс рассыпанный хлеб и лоза дикого винограда обвила голую панцирную кровать. Рядом с пожарищем зацвел крыжовник и стоял, обметанный зеленым пламенем, среди развороченной взрывами земли. Рядом щетинилось крестами старое лютеранское кладбище. Все деревья вокруг кладбища вырубили для маскировки блиндажей. Могилы и склепы были разбиты бомбежками, но именно могила на этот раз хранила будущую жизнь. На развалинах кладбища скрывалась молодая беременная немка. Гурехин несколько дней приручал ее, и лишь на четвертый день женщина взяла у него хлеб и молоко. Сегодня он простился с ней. Этой ночью был назначен марш-бросок через линию фронта.
Возвращался уже в густых сумерках. У знакомого блиндажа с черемухой было пусто. Женька курила, равнодушно глядя на первую проклюнувшуюся звезду. Около Женьки мелким бесом увивался Харитон. Не тратя времени на тактические жесты, он придвинулся ближе и обнял девушку за талию.
– Вы, танкист, на разведчицу напоролись, сами не рады будете! – оправила гимнастерку Женька.
– А я только на половину танкист, а на другую разведчик, – балагурил Харитон. – А у нас в разведке разговоров нет: все знаками объясняются. – И он снова попытался облапить девушку, уже крепче и настойчивее.
– Старшина! – окликнул его Гурехин.
– Обождите, мадам, я к командованию за подкреплением сбегаю, а потом напишу вам шухарнуе письмо в стихах, если вы человеческого обращения не понимаете.
Харитон вразвалку подошел к Гурехину и вдруг, просветлев лицом, выпалил:
– Товарищ капитан, у меня шухарная мысль! – еще раз козырнул Харитон модным словечком. – В самоходке шесть мест?
– Шесть, – кивнул Гурехин. – И что с того?
– А то, что мы с собой можем еще одну боевую единицу прихватить!
– А она согласна, эта единица?
– Давно согласна, только с виду ерепенится. А как танк водит – закачаешься!
– Ну, действуйте, старшина, – усмехнулся Гурехин.
Той же ночью самоходка перешла линию фронта и уверенно двинулась в тыл двенадцатой армии. Самоходку вел Харитон, Женька умостилась рядом с водителем. Гудел и покряхтывал мотор, и с непривычки у Гурехина подрагивало нутро и стучали зубы. В горячих, темных недрах самоходки он не видел лиц, но всею кожей с ожившими «мурашками» чуял рядом Нихиля. Так однажды в бараке он всю ночь терпел сладкий, въедливый запах мертвеца, опочившего на нижней шконке. От соседства Нихиля дыханье мельчало и сбивалось и тонкая отрава проникала в мозг, словно Нихиль был не существом из плоти и крови, а куском космической тьмы.
Вдали, судя по трассерам, уже маячили позиции немцев и ровное движение по шоссе оборвалось. Самоходка съехала на обочину и попыталась пройти лесом по вязкой прошлогодней колее.
– Здесь у них брешь, – объяснял Харитон, – если через этот лесок махнуть, то попадем напрямки к Берлину, только нам туда не надо, нам повертка на Магдебург нужна!
Но то ли указатель был сбит, то ли его проскочили на скорости еще в ночной темноте, но повертку Харитон прозевал. Солнце неумолимо катилось в зенит, а они все еще колесили по тылам, скармливая самоходке последние глотки бензина. В полдень заблудившаяся самоходка вырулила прямиком в тыл немецкой обороны, и до позиций было еще далеко.
У дороги дымил головешками разбомбленный хутор. Харитон остановил самоходку у добротного каменного колодца с почти русским деревянным «журавлем». Гурехин поднял воду, и все по очереди наполнили алюминиевые фляги. По надобности Женька заскочила за сарай.
Харитон уже завел мотор, когда откуда-то со стороны завопила Женька:
– Ай! Мамочки мои!!!
Беспомощно оглянувшись на самоходку, Гурехин бросился на крик и едва не споткнулся о развороченную стену сарая. Поодаль, схватившись за живот, корчилась Женька, ее неудержимо рвало.


