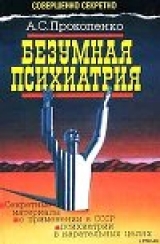
Текст книги "Безумная психиатрия"
Автор книги: А. Прокопенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ТЮРЕМНЫХ ПСИХИАТРОВ
Гроза, было собравшаяся обрушиться на головы карателей-психиатров, благополучно для них рассеялась. Необходимо было рассмотреть перспективы своей деятельности. И в июне 1957 года в Москве состоялось большое совещание по вопросам работы тюремных психиатрических больниц. На нем широко были представлены тюремные отделы МВД СССР и РСФСР, Минздравы СССР и РСФСР, Прокуратура СССР, санчасти тюрем Москвы, представители Института им. Сербского Морозов и Холодковская, консультант ЛТПБ профессор Случевский, всего – 28 специалистов.
Из протокола совещания, состоявшегося 27 июня:
«Вопрос: Как в ленинградской больнице осуществляется одиночное содержание больных, применение смирительной рубахи, влажного обертывания?
Ответ: Больница руководствуется в этих вопросах положениями, содержащимися в сборнике издания 1939 г., где указывается, что изоляция, тепло-влажное обертывание разрешается и применяется по отношению к беспокойным больным. Эти вопросы изучаются после комиссии.
Вопрос: Расскажите о том, как у вас в казанской больнице сожгли простыни для обертывания?
Ответ: Сожгли в период работы комиссии тов. Кузнецова, по его указанию.
Буланов (руководитель тюремного отдела МВД СССР): Врачи-специалисты должны твердо стоять на своей позиции и не должны «пугаться» различных комиссий.
Егоровская (представитель Минздрава РСФСР): В настоящее время мы ограничили применение мер стеснения, как влажные обертывания и т. п. Применяем обертывание лишь как метод лечения (!), используем изоляцию.
Новыми препаратами Минздрав не располагает (аминазин и др.)
Торубаров (тюремный отдел МВД СССР): Одно время была тенденция почти все принудительное лечение в Минздраве передать в больницы МВД. Теперь это отпало, но мы должны и впредь суживать показания к пребыванию в больницах МВД психически больных. В эти больницы могут попадать лица, совершившие опасные преступления, направленные против существующего государственного строя и т. п. Наши больницы прошли период становления, теперь они укреплены кадрами, оснащены. Этап, так называемый «призренческий». прошел, теперь проводится активное лечение психически больных. Нужно шире применять современные методы лечения».
28 июня на совещании обсуждали проект положения о тюремных психиатрических больницах МВД СССР. Из протокола совещания:
«Литвинова (ТО МВД СССР): В проекте не указано, обязательно ли в определении должны стоять слова – содержание под стражей?
Ответ: Изоляцию надо понимать как содержание под стражей.
Мастеров (ТО МВД СССР): Охрана имеет оружие?
Ответ: Внутри больницы – нет. На вышках – с оружием.
Маков (ТО МВД СССР): Стоит ли МВД СССР иметь эту больницу, не отдать ли ее Минздраву?
Воронков (ТО МВД СССР): Больница находится в ведении МВД, там имеется контингент преступников, взятых под стражу.
Морозов (Институт им. Сербского): В какой форме должны быть надзиратели в больнице? В палате?
Ответ: Форма является некоторым раздражителем душевнобольных. Надзорсостав в халатах, под ними форма.
Маков: Положение содержит две части – общую юридическую нормативную и вторую – медицинскую. Касаюсь нормативной части. Принудительное лечение это сильнее, чем изоляция. Изоляция имеет место и в гражданских психиатрических больницах. Соединение лечения с изоляцией – это в гражданских психиатрических больницах. В наших тюремных больницах есть стража, так почему же мы это обходим? Надо прямо и назвать, т. е. внести ясность, что это лечение принудительное и осуществляется оно под стражей. Такое понятие внесет ясность периферии.
Овчинникова (психиатр Бутырской тюрьмы): Понятие – с изоляцией и без изоляции – суды часто не понимают, направляют в специальные психиатрические больницы и в то же время освобождают из-под стражи. Нужно упорядочить это хотя бы в инструкции. Изоляция в психиатрической больнице Минздрава и изоляция в психиатрической больнице МВД различны. Нужно упорядочить эти формулировки судов.
Блинов: Мы толкуем «изоляцию» в медицинском смысле. УК стоит на юридической основе, но суды-то рассматривают главным образом юридический вопрос. С 1954 г., как появилась инструкция, пошла неразбериха в определениях. Для судов наше положение о больницах не является законом, у них есть УК.
Литвинова: В тюремные психиатрические больницы поступают больные, особо опасные для общества, мы их держим, а затем выписываем на общее печение в гражданские больницы. Т. Блинов говорит, что доводить принудительное лечение в тюремных больницах надо до конца, до выписки в гражданские больницы. Это неправильно, надо передавать в гражданские больницы раньше, зря не держать в больницах МВД.
УК был создан в 1926 г., когда больниц не было. Теперь есть такие больницы, к УК они не подходят. Надо «узаконить» их положение и отразить это в УК, в новом проекте. Нужно отразить в Кодексе – содержание под стражей.
Прокуратура медленно решает эти вопросы.
Дело прекращено, но этих лиц содержат под стражей – это заключенные, а не просто больные.
В некоторых случаях больных из психиатрических больниц органов здравоохранения переводят через суды в больницы МВД. Нельзя этим широко пользоваться. Только для больных, совершивших преступления против государства, это допустимо.
Самохин (Прокуратура СССР): В нашем понимании изоляция – есть содержание под стражей. Поэтому мы такие больницы имеем и называем их тюремными психиатрическими больницами. Охрана там есть, возложена на учреждения МВД, т. к. там содержатся люди, привлекаемые за особо тяжкие преступления.
Торубаров: Вопрос о понятии изоляции спорный. В проекте оставлено «с изоляцией», слова «с содержанием под стражей» сознательно опущены, так как под изоляцией надо понимать и медицинские и юридические нормы.
Воронков: Наши тюремные психиатрические больницы, если они будут в МВД, должны иметь четкие рамки об особо опасных действиях. Это надо разъяснить по статьям УК, иначе каждый суд или комиссия будут трактовать это несколько по-своему. В проекте надо отразить, что это – тюремные психиатрические больницы. Каждый больной в нее поступает только через тюрьму (отразить в положении).
Об изоляции – когда записано содержание под стражей – человека предупреждают о применении оружия. Для психически больных это неверно уже юридически: больные этого не понимают. Такого больного берут не под стражу, а под замок. Пока нового термина нет. Видимо будем пользоваться – в соединении с изоляцией».
Я специально ничего не изменил ни в стилистике речей ораторов, ни в орфографии официальных документов. Согласитесь, впечатление от сути вопросов и ответов, реплик тюремных психиатров жутковатое; от веет средневековым инквизиторством.
Царит корпоративная солидарность и уверенность в правоте вершимой ими работы.
Еще раз подчеркнуто основное назначение ТПБ – содержание осужденных за антисоветские деяния граждан.
Применение фактически пыточных мер содержания заключенных – правильно!
Соблюдение социалистической законности в тюрьмах – на недосягаемой высоте.
Особого внимания заслуживает, мягко говоря, дискуссия по проблеме правового положения ТПБ, серьезного нарушения ими статей 6, 7, 24 УК РСФСР, запрещавших держать под стражей лиц, совершивших преступления в состоянии психического расстройства, а также о том, должна ли найти отражение в новых положениях о ТПБ и УК РСФСР дефиниция о содержании душевнобольных под стражей.
За содержание под стражей выступили многие представители ТО МВД СССР, Прокуратуры СССР. Более гибкими постарались выглядеть руководители ТО МВД СССР. Пытаясь быть адекватными принятым постулатам мировой юриспруденции, они объяснили, что из проекта положения о ТПБ фраза «с содержанием под стражей» сознательно убрана и оставлен термин «изоляция», так как в это понятие они включают и медицинские и юридические нормы.
Главное в ином. Для участников дискуссии, пронизанной потрясающим правовым и нравственным нигилизмом, не имело значения, какими понятиями будет определяться содержание заключенных в предполагаемом положении о ТПБ – «принудительное лечение в соединении с изоляцией» или «содержание под стражей». Они прекрасно понимали, что так называемые душевнобольные и истинно больные будут находиться, как и прежде, в двойном кольце неволи: снаружи, по периметру тюремной больницы, вооруженная охрана, внутри – изоляция в одиночных камерах.
«БЕЛАЯ ВОРОНА» В СТАЕ ХИЩНИКОВ
Таким оказался заместитель Председателя Верховного суда Таджикской ССР М. Раджабеков. И вот почему.
С конца 50-х годов вал беззакония в отношении узников тюремных психиатрических больниц МВД СССР нарастал. В сентябре 1957 года заместитель прокурора Таджикской ССР А. Васильев сообщил начальнику отдела по надзору за местами лишения свободы Прокуратуры СССР Г. Цвырко о том, что в отношении поступающих в Казанскую ТПБ на принудительное лечение душевнобольных, совершивших государственные преступления в невменяемом виде, нарушается принятое законодательство, то есть судебными органами не рассматривается вопрос о прекращении или приостановлении против них судебных дел. Суды одновременно принимают решения об освобождении душевнобольных из-под стражи и этапировании их в ТПБ. Но такие определения судов невыполнимы, поскольку ТПБ охраняются вооруженной стражей. «Потому судебные органы вынуждены часто изменять эти определения или по протесту прокуроров или по представлению мест лишения свободы. Прошу вас поставить вопрос перед Верхсудом СССР и даче всем судам соответствующих указаний».
Подобное беззаконие не могло не вызвать возмущения честных судей. А такие, как ни странно, в те времена еще были.
И вот М. Раджабеков 22 марта 1958 года отписал секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу Л. И. (еще без формулировки «лично») следующее:
«Я – коммунист, работающий в судебных органах, считаю своим долгом доложить и просить Вашего указания о разрешении вопроса, имеющего принципиальное и важное значение в практической деятельности органов суда, прокуратуры, МВД и Минздрава СССР – по соблюдению ими социалистической законности». И далее, просветив секретаря ЦК КПСС об основах законодательства, касающихся душевнобольных, совершивших государственные преступления, он обращает внимание Леонида Ильича на то, что «во многих случаях больные правонарушители вместо направления их на принудительное лечение в лечебные учреждения Минздрава СССР направляются в так называемые тюремные больницы МВД без освобождения из-под стражи, где они по существу отбывают бессрочное тюремное заключение».
М. Раджабеков сообщает, что в 1956 году комиссией Президиума Верховного Совета СССР были выявлены факты содержания душевнобольных под стражей в Казанской ТПБ и по протесту Генерального прокурора Верховный суд СССР освободил этих лиц из-под стражи, но юридически положение исправлено не было.
М. Раджабеков присовокупил к своему посланию два определения Верховного суда Таджикской ССР по делу заключенного НИГМАТОВА МАХМАДУЛЛО, принятых с интервалом в три месяца.
Лицемерие и феноменальная беспринципность этих творений советской Фемиды поражает воображение.
Из определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ТАССР:
«…27 сентября 1956 г., рассмотрев вопрос о дополнении определения судебной коллегии по уголовным делам от 21 августа 1956 г. по делу НИГМАТОВА М. – УСТАНОВИЛА:
НИГМАТОВ М., 1924 г. рождения, таджик, уроженец кишлака Нишерен Гармского района Таджикской ССР, привлеченный к уголовной ответственности по ст. 61, ч. 1 УК Таджикской ССР (ст. 58 УК РСФСР), на основании заключения стационарной судебно-психиатрической экспертизы о его невменяемости направлен на принудительное лечение в соединении с изоляцией в Казанскую ТПБ.
Однако в определении от 21 августа 1956 г. не указано, какой конкретно вид принудительного лечения следует применить в отношении Нигматова и при вынесении этого определения судом не разрешен вопрос об освобождении Нигматова из-под стражи ввиду прекращения о нем дела, в связи с чем при исполнении определения возникли трудности.
Учитывая изложенное, судебная коллегия по уголовным делам, руководствуясь ст. 141 УПК ТССР (таджикские служители Фемиды умудряются в сем неправедном суде еще ссылаться на статьи законодательства!!) – определила:
исходя из заключения судебно-психиатрической экспертизы и степени опасности Нигматова для общества, считать его подлежащим направлению на принудительное лечение в специальное психиатрическое лечебное учреждение МВД.
Из-под стражи Нигматова М. освободить».
Читатель думает, что дело таджикского политзаключенного благополучно завершилось? Ничего подобного.
Из определения судебной коллегии по уголовным делам верховного суда ТССР:
«…18 декабря 1956 г., рассмотрев вопрос о дополнении определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ТССР от 27 сентября 1956 г. по делу НИГМАТОВА МАХМАДУЛЛО, – УСТАНОВИЛА:
определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ТССР на основании заключения стационарной судебно-психиатрической экспертизы от 21 мая 1956 г. признан невменяемым и направлен на принудительное лечение с изоляцией в специальное психиатрическое лечебное учреждение МВД СССР. Уголовное дело в отношении Нигматова прекращено с освобождением его из-под стражи.
В связи с разъяснением того, что содержание психически больных на принудительном лечении с изоляцией в тюремных лечебницах МВД СССР практически есть содержание их под стражей – указание в определении от 27 сентября 1956 г. является по существу неправильным.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 141 УПК ТССР (удивительно гибкая для применения статья УПК!), судебная коллегия – определила:
Во изменение определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ТССР от 27 сентября 1956 г. Нигматова М. считать содержащимся под стражей.
Направить Нигматова на принудительное лечение с изоляцией в специальное психиатрическое лечебное учреждение МВД СССР».
В таких случаях говорят: спокойнее, возьмем себя в руки и разберемся во всем с точки зрения классической логики.
Первым определением от 27 сентября 1956 года таджикские советские судьи Нигматова из-под стражи освобождают, но как опасного государственного преступника (естественно, душевнобольного) направляют в тюремную психиатрическую больницу.
Поскольку Нигматов невменяем, то его, согласно закону, не должны заточать в психиатрическую больницу МВД со стражей; его прямая дорога только в гражданскую психиатрическую лечебницу. Казалось бы, те же судьи должны были бы исправить свою ошибку. Но 18 сентября того же года они вновь выносят вердикт о заточении Нигматова в тюремную психиатрическую больницу, а поскольку там все сидят под стражей, то считать, не мудрствуя лукаво, Нигматова находящимся под стражей.
Что же получается? Если Нигматов под стражей в КТПБ, значит, он чудодейственно излечился от душевного недуга? Но ведь согласно определению судебной коллегии он душевнобольной!
Все гораздо проще. Судьям важно было соблюсти формальное соответствие статьям УК о преступлениях, совершенных в состоянии невменяемости, только на бумаге, а действительно ли заключенный психически болен или здоров – это их не волновало.
А самое-то грустное и трагическое заключалось в том, что таджик Нигматов был нормальным человеком; просто выпала ему суровая доля из-за антисоветских взглядов.
А М. Раджабеков только казался «белой вороной». Жалости к людям, ставшим на путь борьбы с советским государством, он не испытывал. Ему важно было привести в соответствие с советским законодательством несколько выбившуюся из правовой колеи практику оформления изоляции душевнобольных преступников.
М. Раджабеков ответ из Москвы получил, но не от Леонида Ильича, о от заместителя председателя Верховного Совета СССР Л. Смирнова. Ответ по существу индифферентный, сводящийся к тому, что Раджабеков во всем прав и что в подготавливаемых новых проектах УК и УПК порядок применения судами мер медицинского характера будет более обстоятельно регламентирован.
Забегая вперед, скажем: ничего подобного не произошло. И душевнобольные, и люди в здравом уме при полном забвении советскими судами законодательства год за годом обретались в тюремных психиатрических больницах МВД СССР под стражей: первые этой особенности не понимали, а вторые воспринимали как одну из нелепостей советского государственного строя.
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ СССР
После XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина и связанные с ним массовые репрессии, у руководства СССР возникла необходимость в обуздании все большего числа лиц, выступавших открыто против различного рода злоупотреблений власти, отсутствия в стране демократических институтов. Этого и следовало ожидать, как грозы после долгого изнуряющего зноя. Многих из таких «инакомыслящих» нельзя было допускать в судебные заседания по различным причинам, в том числе и в связи с отсутствием в подобной критике состава преступления, а также очевидностью их высказываний. Но поскольку «железный занавес» был приоткрыт и это постоянно подпитывало доморощенную волну антисоветских высказываний и выступлений, появилась новая потребность в психиатрической «тихой» внесудебной расправе с такого рода «критиканами», тем более что Н. С. Хрущев говорил о том, что только душевнобольные могут быть несогласны со светлыми перспективами строительства коммунизма. У судебных психиатров, направление которым задавал по-прежнему Институт им. Сербского, появился новый социальный заказ. Угольку в жар подбросили Руденко и Серов накануне проведения в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Из записки генерального прокурора СССР Руденко и председателя КГБ при СМ СССР Серова (июнь 1957 года):
«…В 1956–1957 гг. в числе установленных 2600 авторов антисоветских документов было более 120 человек психически больных. В г. Москве из 112 разысканных авторов антисоветских документов оказалось 38 человек больных шизофренией.
Органам госбезопасности и прокуратуры бывает заранее известно, что эти правонарушители состоят на учете в неврологических диспансерах Минздрава как душевнобольные.
По существующему порядку органы безопасности и прокуратуры возбуждают против таких правонарушителей уголовные дела, арестовывают их, производят расследования и направляют дела в судебные инстанции для вынесения решения о принудительном лечении. Не говоря уже о явной нецелесообразности ареста и возбуждения дел против лиц, не отвечающих за свои действия, такой арест компрометирует членов семей больных, часто не посвященных в преступную деятельность своих родственников.
Считали бы целесообразным внести некоторые изменения в существующий порядок с тем, чтобы:
а) против душевнобольных, распространяющих антисоветские листовки и анонимные письма, в случае, если органам безопасности и прокуратуры заранее будет известно, что они являются душевнобольными, уголовное преследование не возбуждать и не арестовывать их, а с санкции прокурора, на основании мотивированных постановлений направлять таких лиц на стационарное исследование в судебно-психиатрические учреждения;
б) при установлении экспертизой факта психического заболевания, исключающего уголовную ответственность правонарушителя вследствие его невменяемости, органам КГБ и прокуратуры производить расследования для установления авторства анонимных документов и собранные материалы с санкции прокурора направлять в суд для применения к правонарушителям мер социальной защиты медицинского характера, то есть принудительного лечения».
Здесь что ни строка, то вопиющее нарушение прав человека и требование к врачам судебно-психиатрических комиссий принимать участие в расправах, санкционированных КГБ и прокуратурой.
В ЦК КПСС все же возобладал здравый смысл и некий чиновник Д. Салин начертал на докладной силовых генералов следующую резолюцию: «Разговаривал: договорились, что никакого указания давать нельзя».
НОВЫЙ УК РСФСР И ПСИХИАТРИЯ
Введенный в действие в 1961 году новый УК РСФСР принципиально не изменил устоявшуюся за десятилетия репрессивную практику применения принудительных мер медицинского характера к душевнобольным, порядок направления и содержания их в психиатрических больницах.
Из УК РСФСР исчезла только резко бросавшаяся в глаза «классовая» лексика о социальной защите судебно-исправительного и медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные действия, направленные против советской власти, заточение таких лиц, совершивших подобные действия в состоянии душевной болезни, в лечебные заведения в соединении с изоляцией.
Статья 58 нового УК РСФСР сформулирована была следующим образом: «…к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, но заболевшим до вынесения приговора или во время отбывания наказания душевной болезнью, лишающей их возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, судом могут быть применены следующие принудительные меры медицинского характера: 1. помещение в психиатрические больницы общего типа; 2. помещение в психиатрическую больницу специального типа».
Психиатрические больницы второго типа предназначались для душевнобольных, представлявших по своему психическому состоянию и характеру совершенных ими общественно опасных деяний особую опасность для общества.
Было также определено, что лиц, направленных в психиатрические больницы специального типа, следовало содержать в условиях усиленного надзора, исключающего возможность совершения ими нового общественно опасного деяния. Дефиниции нового УК РСФСР позволяли органам безопасности широко определять шкалу общественно опасных деяний – от убийства до распространения в СССР запрещенной политической литературы.
Статьи 70 – «Антисоветская агитация и пропаганда», 190 – «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», 190 – «Надругательство над государственным гербом или флагом», 190 – «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих порядок», недвусмысленно определяли формулировку «общественно опасные деяния, представляющие особую опасность для общества».
И если оно совершалось в состоянии якобы душевного расстройства, расплатой за содеянное было принудительное лечение с изоляцией в психиатрических больницах специального типа, то есть в тюремных психиатрических больницах МВД СССР.
Таким образом, по существу, законодательство в отношении наказания так называемых душевнобольных инакомыслящих по-прежнему осталось репрессивным, несмотря на новые, «прогрессивные» формулировки.
Одновременно вступила в действие утвержденная Минздравом СССР (от 10 октября 1961 г. 04–14/32) инструкция «По неотложной госпитализации психически больных, представляющих общественную опасность». Суть ее заключалась в том, что психически больной мог быть без согласия родственников и опекунов насильственно госпитализирован с помощью милиции. В течение суток после госпитализации больной должен был быть обследован специальной комиссией в составе трех врачей-психиатров, которая рассматривала вопрос о правильности стационирования и необходимости пребывания больного в стационаре.
Тройке психиатров приходилось решать не только чисто медицинские вопросы о диагнозе и глубине расстройства психики. Она брала на себя ответственность решать, что есть общественная опасность лица, – трудная задача, не всегда и суду под силу.
Инструкция давала широкие полномочия психиатрам в зависимости от их взглядов и настроения. В инструкции ни слова нет о квалификации врачей, о процедуре пересмотра решения, голосования, протоколирования и т. п.
Авторы инструкции исходили, главным образом, из презумпции неправосубъектности психически больных.
Таким образом, отсутствие права на защиту и пересмотр решений и забвение гласности таили в себе угрозу незащищенности лиц, против которых могло быть начато психиатрическое преследование, от злоупотреблений власти.
Все вышеупомянутые государственно-ведомственные нормативы составили правовую (вернее, антиправовую) основу начинавшей набирать обороты очередной репрессивной кампании советских властей против инакомыслящих – диссидентов.








