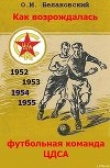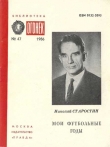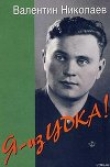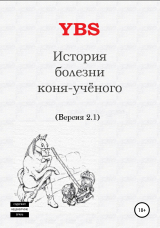
Текст книги "История болезни коня-ученого"
Автор книги: YBS
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Лужники
К Спартакиаде в том же 56-м подоспело и открытие Лужников. Мы всей семьей с друзьями оказались там на матче «Спартака» и «Торпедо». Опять «Спартак»! Но я приговорен был в детстве оказываться на его матчах куда чаще, чем на играх армейцев – отец-то хотел смотреть своих, может и меня рассчитывал распропагандировать. Но папа тогда еще не знал, какое могучее чувство противоречия я унаследовал у своих предков: я тогда за «Торпедо» стал болеть, и они выиграли 2:1! По случаю открытия стадион был переполнен, таким я видел его в своей жизни считанное количество раз, а потом часто возникало ощущение, что стадион в Лужниках пуст, хотя народу, может быть, было не меньше, чем на «Динамо». Гол у торпедовцев тогда забил Юрий Фалин, которого «Спартак» на следующий год к себе перетащило. Вообще, и тогда, и потом я примечал, что проигравшие норовят залучить к себе того игрока, который им больше всего насолил.
Сама Лужа тогда произвела на меня даже большее впечатление, чем футбол. Я ведь до того видел только московский да киевский стадионы «Динамо», и Лужа после них подавляла своими размерами. Мы сидели на Севере под самым козырьком (козырек тогда тоже был новинкой!). Поле оказалось очень далеко, я думал, что в этом величественность, и только потом, когда стал взрослым, понял, что стадион дурацкий, нефутбольный и неудобный. А уже вскоре пошли разговоры – да, стадион у нас великий, только газон хреновый – ни в какое сравнение с «Динамо» не идет. Так это проклятье над Лужей и тяготело долгие годы. Надо признать, что обновление к ЧМ-2018 сильно пошло стадиону на пользу с точки зрения удобства для болельщиков, посмотрим, сколько новый газон там продержится…
Лужниковский комплекс при всех его недостатках стал местом, где произошло множество выдающихся событий, о которых речь пойдет дальше, и далеко не только футбольные. Лужа – это и первый бассейн в Москве с большими трибунами, и первый приличный ледовый дворец. Помню, как, попав туда в первый раз зимой с опытом боления на трибуне Динамо в зимнем пальто и валенках, страшно удивился, что там надо раздеваться в гардеробе. Но и разочарование запомнилось – родители достали мне туда билет на новогоднюю елку, я смотрел на это представление, смотрел, а сам внутри себя ждал, когда же они кончат валять дурака со своими бабами-ягами и начнется нормальный хоккей…
Большая спортарена Лужников – это же впоследствии и Спартакиады народов СССР, в одной из которых принимал участие и я, и Олимпиада-80, а еще до того, такие своеобразные соревнования, как ныне давно позабытые легкоатлетические матчи СССР – США, и некоторые из них серьезно врезались в память. Эти матчи – плод, как мне думается, «любви-ненависти» между этими странами, которые терпели друг друга с трудом, но и жить друг без друга не могли, сверяя свои шаги с поведением конкурента. Они проводились по всей олимпийской легкоатлетической программе – только американцы и наши, по два участника от страны в каждом виде, и стали некоторой сублимацией вражды, позволявшей стравить взаимную напряженность без применения оружия массового поражения. Страсти там кипели отчаянные, и в историю вошел кошмарный забег на 10000 метров в первом матче, проходившем в Штатах в 1959-м. Телетрансляций из-за океана еще не было, и то, что там случилось, мы увидели в кинохронике примерно через полгода.
Забег проходил при температуре за 30 градусов и высокой влажности. Говорят, с трибун то и дело оттаскивали зрителей, получивших тепловые удары. На дорожке все обстояло еще хуже – сначала на второй половине дистанции одного из американцев стало мотать из стороны в сторону, он упал, попытался встать и упал снова. Американские судьи поначалу пытались не подпустить к нему врачей, потому что надеялись, что он, может быть, встанет и доберется для финиша – так были нужны очки. Второй американец, выбрал такой темп, чтобы не умереть, и добился своего, финишировав третьим. Наш Хуберт Пярнакиви последние круги бежал практически без сознания какими-то судорожными прыжками, высоко вздергивая колени, мотаясь поперек четырех беговых дорожек – на эти кинокадры невозможно смотреть без слез, за финишной чертой он просто упал на руки своего товарища по команде, а потом долго лежал в госпитале с чудовищным перегревом и обезвоживанием. А победитель забега Десятчиков – единственный, кто бежал, не экономя сил, не упал, выглядел нормально, и понять это невозможно – какой-то фантастический организм. Да, а почему собственно было такое смертоубийство: это был один из последних видов, и тот, кто выигрывал его, – выигрывал матч. Тогда, в 59-м, все было настолько серьезно, что люди были готовы жизнь отдать. Ну, мы, само собой, победили. Посмотрите, у кого нервы крепкие. [38]38
http://www.youtube.com/watch?v=VHcBgEiuIrY
[Закрыть]
А лужниковские матчи СССР – США остались в моей памяти «вечером Брумеля» в 1963-м. Когда уже заканчивалась программа дня, в секторе для прыжков в высоту остался только он – в то время уже рекордсмен мира, уже победив и своего напарника и обоих американцев – прыгал просто от ощущения собственного всесилия. Он брал играючи одну высоту за другой и добрался до нового рекорда мира – 228 см. Трибуны замерли, а он взлетел – и взял, и было чувство, что и это – не предел. Уже совсем стемнело, и Брумель просто умаялся прыгать, а тогда казалось – он и 230 возьмет… Это был один из последних рекордов мира, добытый «перекидным» стилем. Вскоре вошел в моду фосбюри-флоп, и прыгать стали спиной вперед на высокий мат из поролона, а не как раньше – в яму с песком.
Этот рекорд в Лужниках был пиком карьеры Брумеля, которая вскоре фактически оборвалась аварией на мотоцикле. Многие операции в Институте травматологии и ортопедии ни к чему не привели, пока кто-то не посоветовал Валерию поехать в Курган к неизвестному тогда доктору Илизарову. С помощью изобретенного тем аппарата фиксации костных фрагментов удалось добиться практического выздоровления, во всяком случае, достаточного, чтобы после возобновления тренировок Брумель прыгнул на 209, что для нормального человека немыслимо, а для рекордсмена мира оказалось слишком мало, но все равно было подвигом.
Впоследствии о Гаврииле Абрамовиче Илизарове и, в частности, его операции Брумелю, был снят художественный фильм, но там кучерявого носатого еврея переделали в гладко причесанную Ию Саввину. Говорят, все это произошло не без интриг испытывавшего к Илизарову лютую ненависть ЦИТО[39]39
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова. Говорят, имя Илизарова там нельзя произносить вслух до сих пор.
[Закрыть]. Деятели этой конторы даже вошли в историю немыслимым в СССР кощунством: описывая аппарат Илизарова, они фактически отказались от советского приоритета, сославшись на австрийскую работу, которая сама цитировала курганского врача как первоисточник. «Цитошники» постоянно блокировали избрание Илизарова в Академию Медицинских Наук. В пику им в начале перестройки Академия Наук СССР избрала Гавриила Абрамовича в свои члены. Метод Илизарова используется и по сей день во многих странах мира и представляет собой редкий случай советского невоенного открытия, приоритет которого неоспорим всеми, кроме ЦИТО, и которое оказалось полезно всем.
А закончился 1956-й год просто замечательно – на экраны вышла первая кинокартина Эльдара Рязанова – «Карнавальная ночь». После всяких «Подвигов разведчика» и «Джульбарсов» – живая, человеческая и ужасно смешная комедия всех развеселила и оказалась одной из первых ласточек новых веяний в советском искусстве. Да, конечно, начальник, над которым смеялась вся страна, был всего лишь директором дома культуры и играл-то его все тот же Ильинский, который в таких ролях стал известен еще до войны, но все же эпоха смертельной серьезности в послевоенном советском кинематографе подалась немного.
Единственный вред от картины – это повальное голодание женского населения державы в погоне за недостижимым идеалом – затянутой в талии до 42 сантиметров умопомрачительной Людмилой Гурченко, которая на некоторое время стала советской Мэрилин Монро, о которой мы тогда, впрочем, тоже ничего не знали.
События, менявшие жизнь всей страны и отдельных ее граждан, шли косяком. И снова происходившее в стране тесно переплелось с событиями в нашей семье. Громовой сенсацией стала книга Сергея Смирнова о героях Брестской крепости. До того, как бы подразумевалось, что в 41-м войска на границе, несмотря на «внезапность вероломного нападения», героически сражались, с боями отошли вглубь страны, тут любили приводить аналогию с войной 1812-го года, а потом перешли в победоносное контрнаступление. Ну, да, конечно, кто-то погибал, вечная им память…
А тут вдруг открылось, что бойцы и командиры в пограничной Брестской крепости отчаянно сражались, ждали контрудара Красной Армии, не дождались и были убиты или попали в плен. Особенно я сочувствовал герою книги Пете Клыпе – воспитаннику одной из частей крепости. И вот тут оказалось – Смирнов об этом написал первым, – что к тяжкой военной доле и немецкому плену уцелевшим в тех боях добавилось несчастье, уже когда они вернулись на Родину, – все они оказались в советских тюрьмах и лагерях как изменники…
А чуть ли не синхронно у нас появился новый родственник – старшая сестра моего отца вышла замуж за человека с удивительной судьбой. Мой новый дядя Миша во время войны попал в плен. В бою на нем сгорело и обмундирование, и документы, поэтому при первичной сортировке гитлеровцы его как еврея не убили сразу. Вместе с ним в плен попали люди, которые его знали лично, но не выдали, хотя за донесение полагалось поощрение, а за недонесение – расстрел.
Дяде Мише относительно повезло, потому что он попал не в лагерь уничтожения, а в обычный лагерь военнопленных в Северной Франции, где их просто морили голодом и заставляли работать. И его товарищи все время плена загораживали его от немцев, когда их гоняли в баню.
После Победы освободившие лагерь американцы очень зазывали его, способного инженера, к себе, обещали хорошую работу… но дядя Миша хотел вернуться к своей семье, еще не зная, что все убиты. В 46-м он репатриировался и… оказался в колымских лагерях. На десять лет…
Когда мы с ним как-то заговорили об этом, он сказал, что в наших лагерях было страшнее. И объяснил, что любимым развлечением охранников было ночью вломиться в барак и подать команду: – Вылетай без последнего! Зэки должны были «на скорость» выбежать из барака на 50-ти градусный мороз. Последнего вертухаи забивали до смерти.
Несокрушимого здоровья дяди хватило, однако, и на это, и на то, чтобы после освобождения успешно работать, эмигрировать в конце 70-х в Израиль, а спустя несколько лет – перебраться в Америку. Американцы, в конце концов, таки заполучили его к себе!
Не меньшее впечатление произвело на меня и другое случившееся об это время событие. Вдруг в герметизированном государстве, не имевшем представления о внешнем мире за последние десять лет и уже подзабывшем виденное в войну, провели Фестиваль молодежи и студентов. Не знаю, хорошо ли подумали идеологи КПСС над последствиями этой акции, но, с другой стороны, существовать в такой жесткой изоляции, как при Сталине, страна уже не могла. И стали у нас твориться удивительные вещи: сначала понемножку на улицах и скверах стали попадаться иностранцы. Я сам на детской площадке Патриарших прудов столкнулся с мальчиком, хорошо говорившим по-русски, и его папой, который по-русски – ни бум-бум, загодя приехавшими на Фестиваль откуда-то из Латинской Америки. У метро Сокол мы встретили негра – первого в моей жизни и, видимо, не только в моей – за ним перла немаленькая толпа, разглядывая его, как прогуливающегося по улицам Москвы жирафа. Я тоже разинул рот от удивления, но мама велела мне его захлопнуть…
Мы тогда вообще очень много чего не знали и не ведали. Вот в 54-м родители сняли дачу в Малаховке и вывезли меня туда на все лето. Родители мои имели массу друзей, которые и в нашу 8-метровку набивались по всяким поводам, а уж на дачу-то, где было раздолье, заявлялись каждый выходной[40]40
тогда воскресенье было единственным выходным днем, в 56-м ввели укороченный на 2 часа рабочий день в субботу. Полностью выходной суббота стала только в 67-м.
[Закрыть]. Дополнительной приманкой стало то, что отец купил лист сухой штукатурки и сделал из него стол для входившего в моду завезенного советскими специалистами из Китая пинг-понга. И вот как-то в воскресенье к нам завалилась компания папиных сослуживцев, один из которых привез американские конфеты! Я вообще впервые в жизни видел что-то «американское»! Все расхватали восьмиугольные конфетки, похожие на леденцы, а мне как самому маленькому досталось больше всех.
Как же мне потом худо было, да и остальным тоже… Ну, кто ж знал, что это не конфеты, а жевательная резинка, и ее нельзя глотать!
А летом 57-го Москва активно стала наводить праздничный марафет, обмоталась приветственными плакатами и обвешалась флагами неведомых стран, но в вечер перед открытием Фестиваля как будто дух Вождя свалился на Москву с небес невиданным ураганом, который все городские украшения посрывал. Всю ночь поднятые по тревоге городские службы вертелись, как ужаленные, стараясь восстановить поломанную красоту, и нечеловеческими усилиями привели главные улицы в праздничный вид. Так что мировая молодежь и студенты, которых наутро провезли по улице Горького в грузовиках, увидели все положенные украшения и по-настоящему радостные толпы встречающих их москвичей. А, самое главное – их увидели счастливые от такой необыкновенной возможности москвичи!
Все время фестиваля – это был какой-то грандиозный «загул де рюсс», когда гостей растаскивали по домам, и туда сбегались все соседи. Пили, поили, пытались объясняться на пальцах и неведомых языках и получали прививку от страхов, от настоящей ксенофобии, которую у нас насаждали десятилетиями. Совсем, как нынче… После фестиваля, по крайней мере москвичам, уже невозможно было врать про заграницу, все, что в голову взбредет, – люди повидали иностранцев, пообщались, выпили с ними, и теперь совершенно иначе смотрели на мир, простиравшийся за линией границы, охраняемой сержантами Карацупами с их Индусами[41]41
советский пограничник и его пес, имена которых стали в Советском Союзе в этом качестве нарицательными
[Закрыть].
Ко всем этим праздничным событиям сгодился и новенький стадион Лужники, потому что одновременно с Фестивалем проводились и III Международные игры молодёжи. Само собой, мы там всех победили, потому что серьезные команды приехали только из социалистических стран. И все же – это были первые большие комплексные международные спортивные соревнования, прошедшие в СССР.
От Фестиваля остались и другие следы: впервые в Москву завезли для гостей кофеварки-эспрессо, одну из которых я помню в кулинарии на Ленинградке. Похожий аппарат под действием растущего благосостояния мы получили в подарок от кого-то из друзей. Четыре инженера-теплотехника и один вертолетчик изучили инструкцию на немецком, нашли, куда насыпать кофе, за неимением иного – засыпали то, что продавалось у нас в коробках серого картона, и включили прибор. Оттуда после некоторого размышления вылилось несколько кубиков черной жидкости, а потом пошло то, что инженерное сообщество охарактеризовало как «писю сиротки Хеси» и в качестве кофе забраковало. Дело было в том, что наша тогдашняя психология была настроена на потребление напитков не менее, как стаканом, и 10–20 кубиков продукта всерьез не воспринимались. В общем, эксперимент был признан неудачным, а прибор отправлен на шкаф, где и скончал свои дни. Только десятилетие спустя жизнь открыла для меня, что есть настоящий кофе.
Серые мундиры
1-го сентября 1957 года мама отвела меня в первый класс. Незадолго до того мужские и женские школы объединили и ввели обязательную школьную форму – коричневые гимназические платья с черными фартуками для девочек, а для мальчиков – серые гимнастерки под ремень и фуражки с кокардой, на которую в окружении лавровых листьев была помещена литера «Ш» – школа. Кокарду у нас было принято тут же переворачивать – тогда получалась буква «Т» – тоска. Нам, тогдашним пацанам, помешанным на армии, носить форму, вообще-то очень нравилось. Проблемы, однако, возникли с брюками – они застегивались на скобу, сделанную, по-моему, из пружинной стали. Руки семилетних мальчиков справиться с этим изделием не могли, что привело к целому ряду трагедий среди одноклассников. Меня в брюки вставляли по утру, а потом, по возвращении из школы, если отец был в Москве, он забегал из своего отдела и выпускал меня из штанов на волю, если его не было – приходилось ждать вечера, когда с работы приходила мама. Сильно развил терпение и выдержку. Только к Новому Году я наловчился сам справляться – то ли скобу подразболтало, то ли руки накачались.
В школе мне понравилось, особенно когда перед входом построились десятиклассники с винтовками – на урок по «Военному делу». Я мечтал, что вырасту и тоже буду вот так клацать затвором[42]42
зигзаги миролюбивой внешней политики Советского государства привели к тому, что уроки военного дела из школьной программы были устранены и заменены Гражданской обороной, сокращенно – ГРОБ. Так что поклацать затвором удалось только в стрелковой секции Биофака МГУ и на командирских курсах.
[Закрыть]. Так что и 2-го сентября я туда отправился спокойно – напрягаться особо не приходилось, читать и считать я уже давно умел, и, пока коллег учили буквам, думал о своих текущих задачах. Дело в том, что мама ушла на суточное дежурство в свой ГАМЦ ВВС, и мне надо было после школы самому греть себе обед. К счастью, у нас дома незадолго до того поставили газовую плиту, и мама потратила час, обучая меня ее зажигать. С нашим старым керогазом все было бы сложнее…
Боевая задача состояла в том, чтобы согреть кастрюлю с борщом. Началось все хорошо – удалось подпалить плиту без взрыва, ну, я и расслабился – в комнате на столе меня ждала раскрытая «Старая крепость» Беляева, в которую я тут же и углубился. Из нирваны меня вывела соседка сообщением, что у меня что-то горит.
Да, борщ уварился почти до состояния каши и приобрел из-за потери воды катастрофически соленый вкус. Пришлось это съесть – и потому, что был голоден, и в наказание самому себе за разгильдяйство.
В моем 1-м «Б» классе 150-й школы, что на Ленинградке аккурат напротив комплекса ЦСКА (тогда еще носившего самое длинное и корявое в своей истории название – ЦСК МО)[43]43
Центральный Спортивный Клуб Министерства Обороны. Морякам повезло еще меньше – ватерпольную команду назвали ЦВСК ВМФ (центральный водно-спортивный клуб Военно-Морского Флота), и в печати ехидничали, что это русское слово с самым большим количеством согласных подряд.
[Закрыть], было по списку 50 человек. Конечно, вся эта орава собиралась вместе только 1 сентября, а потом кто-то сразу переходил на домашнее обучение, начинал болеть или прогуливать, но и из того, что оставалась, сейчас, определенно, сформировали бы два класса. Или три… Тогда я получил еще один урок советского интернационализма: завуч начальной школы взяла в этот год очередной класс, и во всеуслышание заявила, что «жидов у нее не будет». Всего через четыре года после «дела врачей» здесь ничего удивительного нет, кроме разве что прямоты этой деятельницы народного образования и члена коммунистической партии. В результате всех «космополитиков»[44]44
Первая антисемитская кампания в СССР в конце 40-х гг. формально была направлена на борьбу с «безродным космополитизмом».
[Закрыть] сплавили молодой Валентине Алексеевне Тимониной, и набралось нас таких 16 человек, так что всю начальную школу у нас в классе антисемитские поползновения были исключены. А класс, назло завучихе, три года держал в районе первое место по успеваемости, хотя у нас было два второгодника и один третьегодник (!)[45]45
Второгодник, третьегодник – названия обозначали учеников, оставленных на повторный или даже третий курс в одном классе. С развитием формализма в обучении понятия вышли из употребления примерно в 65-м – 66-м годах.
[Закрыть].
Учиться мне было легко, но некоторые затруднения случилось почти сразу. Первое состояло в том, что по арифметике надо было написать несколько строчек 1+1=2. Елки-палки, мне и так было понятно, что «2», но я внутренне никак не мог поверить, что надо просто тупо это повторять – мне казалось, что тут какой-то подвох, и пример надо каждый раз решать заново, однако простота задачи ставила в тупик – все время получалось одно и то же… Я к тому времени уже прочел «Кондуит и Швамбранию» Кассиля, где постоянно упоминалась заубрежка и по некотором размышлении понял, что вот это она и есть.
Второе состояло в том, что время уроков тянулось болезненно медленно, выматывая жилы и мозги. Я только во втором классе дошел до нахальства совать в парту раскрытую книгу и почитывать на уроках, не требующих постоянного внимания. А потом, в 7-м классе я вдруг почувствовал, что что-то сдвинулось – уроки стали заканчиваться все быстрее и быстрее, и в какой-то момент оказалось, что мне уже 71 год…
А тогда, когда мне было на 64 года меньше, несмотря на перечисленные выше школьные тяготы, у меня сложился вполне оптимистический подход. Выглядело это примерно так: наша страна – самая большая и замечательная в мире (хотя бы потому, что здесь живут мои, несомненно, самые замечательные папа и мама), она победила страшного и бесчеловечного Гитлера в кровавой битве, у нас были недостатки и даже ужасные преступления (это я себе уже уяснил), но недостатки устранены, преступления наказаны (это было заблуждением), у нас лучшие в мире спортсмены, мы всех побеждаем на олимпиадах, и теперь-то у нас все вообще будет прекрасно.
Такая парадигма, несомненно, накладывалась на генетически унаследованный темперамент и детский оптимизм, что немало меня впоследствии поддерживало в разных трудных жизненных обстоятельствах. И осенью 57-го, надо сказать, такая жизненная установка получила изрядное подкрепление. 4 октября я стоял в коридоре у умывальника и чистил зубы зубным порошком[46]46
Паста только входила в обиход и еще не полностью вытеснила порошок, которым еще можно было чистить бляху на форменном школьном ремне.
[Закрыть], когда услышал позывные московского радио, которые давали по важным поводам, а вслед за тем сообщение ТАСС о запуске первого в мире искусственного спутника Земли. Кричать «ура!» с зубами, надраенными порошком, было очень неудобно, но меня это не остановило. Да, о космической гонке тогда никто и ничего не писал, но эта тема все время напоминала о себе разной книжной и кинофантастикой, и вот выплыла на поверхность, и мы взяли первый приз!
Даже условия для моего футбольного боления складывались оптимальные. Никакого численного превосходства красно-белых или бело-голубых у нас в классе не было и в помине. В Петровском дворце располагалась уже не раз упоминавшаяся Военно-воздушная Инженерная Академия им. Жуковского, а кругом стояли дома, заселенные ее слушателями и преподавателями. Вот их-то дети и составляли значительную часть учащихся нашей школы, в массе своей – армейские болельщики, которые и верховодили у нас в классе. Правда, мой лучший друг оказался динамиком – он жил в Петровском парке на Праводворцовой аллее – это слишком близко к их гнезду, вот и заразился, хотя папа у него был нормальный – служил в желдорвойсках.
Футбол и хоккей были важными темами обсуждений в классе, и после этапа походов на футбол с отцом настала пора и собственной активности. Как-то раз удалось просочиться на трибуны, когда ЦСК МО играл с «Тотенхэмом». Матч почему-то в рабочий день игрался в рабочее время. Дождь был, промок насквозь, выиграли мы 1:0, но запомнился только английский вратарь Спринджет, классно он таскал из углов, а так – никакого потрясения от англичан не испытал и только закоснел в убеждении, что мы всех сильней. Потрясение было потом дома – оказалось, что мама неожиданно рано вернулась с работы, и я ей зачем-то был срочно нужен…
Потряхивало и основы общества. Осенью 58-го года, когда мы были уже во втором классе, началась подготовка к годовщине Октябрьской революции. Была в школах такая штука – монтажи. Ко всяким праздникам дети разучивали какое-нибудь длинное-длинное стихотворение и читали на пионерском (октябрятском) сборе. Чтобы не сильно перегружать детские мозги, а также чтобы каждый мог себя проявить, стихотворение делилось по-братски – по строфе, а то и по двустишию на нос. Особо выдающимся доставались вершки и корешки – первая и последняя, обычно ударная, строфы. В тот раз нам тоже раздали «пайки» – бумажки с написанными красивым учительским почерком двустишиями. Помню, что фабула состояла в том, что где-то в глухом Мухосранске девочка решила вырастить цветок в подарок товарищу Сталину. Дальнейшие перипетии не запомнились, отчасти потому, что у меня двустишие было где-то в первой четверти монтажа, а вот заключительные, ударные строки помню, потому что их дали моей соседке по парте, что, вообще-то было странно – девочка была четкой двоечницей, нас и сажали так специально – чтобы отличники «тянули» отстающих. Может быть, соседку так старались простимулировать к свершениям в учебе. Так вот, ей достались выигрышные слова – когда, преодолев нечеловеческие трудности, героиня стиха заслала-таки свой подарочек вождю, тот, конечно, не мог смолчать и в ответ на такое проявление бескорыстной любви народной и написал девочке письмо. В монтаже была сохранена хорошо известная лапидарная манера Иосифа Виссарионовича выражаться:
– Спасибо за цветок.
А ниже подпись – Сталин.
Это не конец письма – из монтажа было ясно, что это все письмо и есть. Моя соседка по парте очень старалась, и у нее получалось – так, с чувством, с придыханием. Ее хвалили. А потом, когда вроде бы должны были начаться интенсивные репетиции и доведение исполнения до блеска, как-то все пошло на тормозах. Мы даже стали беспокоиться – так же можно и опозориться на сборе! И как раз моя соседка, которая должна была триумфально завершать наш перформанс, спросила у классной руководительницы: когда же репетиция? А Валентина Алексеевна вдруг стала что-то мямлить, что, может быть, мы монтаж читать не будем, и, говорят, сейчас такой монтаж не ко времени. А потом, себе под нос, невнятно и сильно понизив голос: – И, вообще, теперь говорят, что Сталин – плохой…
Монтаж мы так и не прочитали.
Мы постепенно взрослели и в третьем классе перешли из самой мелкой школьной категории октябрят в следующий ранг – пионеров. К этому званию прилагались знаки различия – красный пионерский галстук и значок, которые были свидетельством некоторого карьерно-возрастного роста, как бы из салаг в черпаки… Нужно было, чтобы исполнилось 9 лет, ну и, успеваемость, само собой… На этой почве Валентина Алексеевна приобрела на время кнут и пряник в одном флаконе – ах, так вот ты как домашнее задание готовишь! Пойдешь во вторую очередь! И тут дело не столько в пионерах, сколько в этой самой «второй» очереди. У нас было это очень развито – быть первым хоть где. Завязывались серьезные драки из-за того, кто будет идти в первой паре (ходили строем и парами) хоть в класс после перемены, хоть в театр…
Наконец, торжественный день приема первой очереди приблизился – следовало выучить наизусть «Торжественное обещание пионера» и написать его на сложенном вдвое листе ватмана красивым почерком и со всякими виньетками и рамочками. Надо было еще купить галстук, за ним мы с мамой съездили в «Детский мир» на Горького – там были не только дешевые темно-красные из ситца, но и шелковые, подороже, но покрасивей. Еще надо было научиться правильно его завязывать, так чтобы узел не торчал наружу, а был перекрыт ровной полосой, как в обычном галстуке.
С местом приема школа расстаралась, правда в Музей Ленина (это был класс-люкс) не вышло, но получилось по тем временам «4 звезды» – Траурный поезд Ленина, что у Павелецкого вокзала. Вообще-то странная затея – проводить торжественные акты для маленьких детей возле железнодорожного катафалка, но я до таких высот осознания тогда не поднимался, а старшие товарищи считали это большой честью, о чем нам и сообщили.
Нас ввели в траурный зал с настоящим паровозом и багажным вагоном. Двери вагона были раздвинуты, и был виден гроб, заваленный венками. Мы произнесли «Торжественное обещание», и старшие ребята повязали нам галстуки. Но больше всего меня занимало – а что в том гробу?..
В 58-м советская сборная впервые участвовала в чемпионате мира. Отбор в группе, прошедший в остром соперничестве с поляками и завершившийся дополнительным матчем с ними, не очень отложился в памяти, и только из воспоминаний Стрельцова и Иванова я впоследствии узнал о пикантных подробностях – опоздании этих торпедовских форвардов к поезду на матч, погоню на автомобиле аж до Можайска и оправдании Стрельцова голом и голевым пасом.
Психологически я был настроен на то, что в финальном турнире в Швеции наши будут бороться за самые высокие места, и на первых порах радио приносило обнадеживающие сведения. Если глянуть на результаты первых матчей сборной СССР современным взглядом, так и вовсе выглядят они сенсационно успешными. Посудите сами: с англичанами сборная сыграла 2:2, обыграла австрийцев 2:0 и уступила бразильцам – 0:2, но потом в дополнительном матче с Англией взяла верх 1:0, и, выйдя из группы, уступили хозяевам чемпионата – шведам 2:0. Вот тогда началась эта серия, если вдуматься, кошмарного нефарта: на нескольких крупнейших турнирах почти подряд мы нарывались на хозяев – в 58-м – на шведов, в 62-м на первенстве мира – на чилийцев, в 64-м на первенстве Европы – на испанцев, и ни разу такой барьер взять не сумели. Горечь относительной неудачи в Швеции несколько сглаживалась тем, что проиграли, кроме хозяев, только бразильцам, которые произвели сенсацию и своей схемой 4–2–4, и феноменальными Пеле, Диди, Вава, Гарринчей и компанией и начали эру своего безусловного господства в мировом футболе. А сейчас, если бы мы на первенстве мира сыграли с англичанами вничью и выиграли, это событие было бы навечно вписано золотыми буквами в память болельщиков страны. И ведь все это – без трех игроков основного состава – Огонькова, Татушина и Стрельцова, из коих последний был настоящей звездой и лидером атаки… Армейцев в той команде представлял лишь Герман Апухтин.
В третьем классе я и сам стал немножко армейцем. К нам на урок физкультуры пришел какой-то дядька. Всех построили в несколько рядов и заставили сделать несколько упражнений на гибкость, а дядька ходил между рядами и выдергивал тех, кто ему понравился. Выдернутых, меня в том числе, спросили, хотим ли мы заниматься в бассейне ЦСК МО. Ну, раз в ЦСК МО – что за вопрос! Даже несмотря на то, что плавать я кое-как научился только что и особенно далеко уплыть не смог бы. Потом уже выяснилось, что особо далеко и не надо – набрали нас в секцию прыжков в воду, а дядька – это тренер Белый, действующий прыгун, призер первенств СССР.
Три раза в неделю я переходил через Ленинградку, что в те времена было сложным номером. Светофоров там почти не было, а машины мчались со скоростью под 100. Акробатика, особенно на батуте, мне нравилось, а вот падать в воду с высоты – не очень, поскольку я поначалу не был уверен, что выплыву. Достижения мои сводились к тому, что я подучился плавать и ходить строевым шагом, а также приобрел хроническую травму спины после нескольких особо успешных сальто и кульбитов.
В бассейне на галерее тогда было что-то вроде музея боевой славы ЦСКА – выставлены кубки и даже здоровенная очень красивая золотая олимпийская медаль кого-то из армейских гребцов или стрелков. На каждом шагу встречались многократные чемпионы СССР – прыгуны Чачба и Бренер, пловцы и ватерполисты. Зимой рядом с входом в ЦСКА на ледяном поле тренировалась команда по русскому хоккею, а весной на поле рядом с бассейном – то ли дублеры, то ли молодежка футболистов. Так что я купался не только в бассейне, но и в атмосфере армейского спорта.