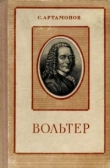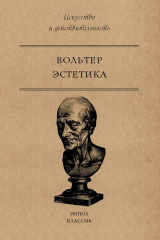
Текст книги "Эстетика"
Автор книги: Вольтер
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Драматическое искусство[36]36
Статья «Драматическое искусство» написана в 1770 г.
[Закрыть]
Драматические произведения: трагедия, комедия, опера«Panem et circenses»[37]37
«Panem et circenses» (латин.) – «Хлеба и зрелищ». Выражение римского поэта Ювенала: Рим «о двух лишь вещах беспокойно мечтает: хлеба и зрелищ» (Сатиры, X, ст. 81, пер. Д. Недовича и Ф. Петровского).
[Закрыть] – заповедь для всех народов. Чем истреблять жителей Карибских островов, не лучше ли было бы пленить их разными зрелищами, балаганами, фокусами, музыкой. Они бы легко покорились. Есть свои зрелища для людей всякого состояния; чернь жаждет, чтобы услаждали ее взор. Это присуще и многим высокопоставленным особам. Души просвещенные и чувствительные нуждаются в трагедиях и комедиях.
Сей род искусства начинается повсюду с повозок Фесписа[38]38
Сей род искусства начинается повсюду с повозок Фесписа… – Вольтер имеет в виду следующий стих Горация: «Первым творенья свои посвятил трагической музе Феспис, который возил представленья свои на телеге» («Наука поэзии», ст. 275–276, пер. М. Гаспарова).
[Закрыть], вослед являются свои Эсхилы, далее Софоклы и Еврипиды, гордость нации, а затем все клонится к упадку: таков закон развития человеческого духа.
Не буду здесь говорить о греческом театре. В современной Европе о нем написано больше толкований, нежели Еврипид, Софокл, Эсхил, Менандр и Аристофан вместе создали драматических произведений. Приступим сразу к новой трагедии.
Ею так же, как и возрождением всех иных искусств, мы обязаны итальянцам. Правда, начали они в тринадцатом веке, а может, и раньше, с фарсов, сюжеты которых весьма неуместно черпали из Ветхого и Нового Завета. Это недостойное заблуждение немедля охватило Испанию и Францию: театр пошел по порочному пути, подражая опытам святого Григория Богослова, который стремился противопоставить театр христианский языческому театру Софокла и Еврипида. Святой Григорий сообщил своим пьесам известное красноречие и достоинство, итальянцы же и их подражатели не вкладывали в свои ничего, кроме пошлости и шутовства.
Наконец, около 1514 года прелат Триссино, автор эпической поэмы под названием «Italia liberata da’Gothi»[39]39
«Italia liberate da’Gothi» (итал.) – «Италия, освобожденная от готов».
[Закрыть], создал свою трагедию «Софонисба», первую в Италии и тем не менее правильную. Он соблюл в ней все три единства – места, времени и действия. Он ввел в нее хор на манер древних. Ей не хватало только таланта. Она была растянута и высокопарна. Но, сообразуясь со временем, когда она была создана, ее надлежит оценить как истинное чудо. Пьеса была представлена в Виченце, и город специально выстроил по сему случаю великолепный театр. Все литераторы того прекрасного века съехались на спектакли и рукоплескали этому достойному всяческого уважения начинанию, как оно того заслуживало.
В 1516 году папа Лев X почтил своим присутствием «Розамунду» Ручеллаи. Тогдашние трагедии, а их творили все наперебой, были писаны правильным, чистым и естественным слогом; но вот что странно – почти все они отличались некоторой холодностью, ибо трудно освоить диалог в стихах, и гении, искусство которых властвует над душами, весьма редки; «Торрисмондо» Тассо[40]40
«Торрисмондо» Тассо… – трагедия «Торрисмондо» Торквато Тассо была написана в 1586 г.
[Закрыть] оказался еще безжизненней прочих трагедий.
Только в «Pastor Fido» Гварини впервые появились трогательные сцены, которые заставляли проливать слезы, брали за сердце и потому невольно запоминались наизусть; отсюда и выражение retenir par coeur – «то, что трогает сердце», запечатлевается в памяти.
Еще ранее кардинал Биббиена возродил истинную комедию, сыграв в отношении ее роль Триссино, вернувшего итальянцам трагедию. Уже в 1480 году, в пору, когда остальные народы Европы прозябали в совершенном неведении изящных искусств, когда повсюду еще царило варварство, этот прелат поставил на театре свою «Каландрию», пьесу интриги и истинного комизма, которой, как и «Мандрагоре» Макиавелли, можно поставить в упрек разве что излишнюю вольность нравов.
В течение почти столетия итальянцы одни владели театром так же, как и ораторским искусством, историей, математикой, всеми жанрами поэзии и всеми художествами, где дух направляет руку.
У французов на всем протяжении пятнадцатого и шестнадцатого веков ставились, как известно, лишь жалкие фарсы.
Испанцы, при всей их искусности и величии духа, сохранили до наших дней прескверный обычай уснащать самым низменным шутовством самые серьезные сюжеты; дурной пример, поданный однажды, способен растлить всю нацию, и привычка обращается в тиранию.
Об испанском театре«Autos sacramentales»[41]41
«Auto sacramentale» – духовное действо – возникло во второй половине XIII в., исполнялось первоначально тремя-четырьмя уличными актерами. Широкое распространение «auto sacramentale» получили в XVI–XVII вв., когда они превратились в пышные постановки аллегорического характера, близкие к мистериям, а отчасти и к моралите.
[Закрыть] оскверняли испанский театр гораздо дольше, нежели «Мистерии страстей», «Действа о святых», «Моралите» и «Матушка Дура»[42]42
«Матушка Дура» – Вольтер имеет в виду ассоциацию актеров-любителей «Беззаботные ребята», которые своим главой избирали «Принца дураков» и «Матушку Дуру». «Беззаботные ребята» славились исполнением фарсов и особенно соти – небольших, частично импровизационных комических пьесок, в которых буффонада нередко сочеталась с острой политической сатирой.
[Закрыть] позорили театр французский. «Autos sacramentales» игрались в Мадриде еще совсем недавно. Сам Кальдерон создал их свыше двух сотен.
Передо мной одна из самых известных пьес такого рода, напечатанная в Вальядолиде без года издания – «Devocion de la missa»[43]43
«Devocin de la missa» (испан.) – «Таинство причастия».
[Закрыть]. В ней действуют мусульманский король Кордовы, христианский ангел, публичная девка, два солдата-шута и дьявол. Один из шутов, по имени Паскаль Вивас, влюблен в Аминту. У него есть соперник – Лелио, солдат-магометанин.
Дьявол и Лелио замышляют убить Виваса и полагают, что это сойдет им с рук, поскольку Вивас совершил смертный грех. Но Паскаль просит отслужить мессу тут же на сцене и сам прислуживает у алтаря. Дьявол таким образом теряет свою власть над ним.
Во время мессы начинается сражение, и изумленный дьявол видит Паскаля в гуще боя, хотя тот и продолжает служить мессу. «Ох! Ох! – говорит дьявол. – Я отлично знаю, что одно тело не может одновременно находиться в двух местах, если не считать святого таинства, к которому этот чудак питает такое благоговение». Дьяволу и невдомек, что христианский ангел принял облик доброго Паскаля Виваса и сражался вместо него во время богослужения.
Как можно легко догадаться, король Кордовы терпит поражение, Паскаль женится на своей маркитантке и пьеса заканчивается хвалой мессе.
В любой другой стране такой спектакль сочли бы кощунственным и инквизиция жестоко наказала бы за него, но в Испании он считался назидательным.
В другом литургическом действе Иисус Христос в квадратном парике и дьявол в двурогом колпаке ведут ученые прения, бьются на кулаках, а под конец вместе отплясывают сарабанду.
Некоторые пьесы подобного жанра оканчиваются словами: ite, comedia est[44]44
…«ite, comedia est» (латин.) – «идите, комедия окончена».
[Закрыть].
Другие пьесы, весьма многочисленные, не имели литургического характера, это трагикомедии и даже трагедии; одна из них называлась «Сотворение мира», другая – «Власа Абсалона». На театре играли «Солнце, покорное человеку», «Бог – щедрый плательщик», «Мажордом Бога», «Благоговение перед почившими». И все эти пьесы именовались la Famosa comedia[45]45
«la Famosa comedia» (испан.) – «знаменитая комедия».
[Закрыть].
Кто поверит, что в сей бездне грубых пошлостей время от времени сверкали искры гения?.. Возможно, некоторые из этих варварских пьес не так уж далеки от пьес Эсхила, где греческая религия была предметом театральной игры, как религия христианская во Франции и Испания.
Что такое, в самом деле, Вулкан, который приковывает Прометея к скале[46]46
Вулкан, который приковывает Прометея к скале… – имеется в виду трагедия Эсхила «Прикованный Прометей».
[Закрыть] по повелению Юпитера? Что такое Сила и Отвага, которые служат Вулкану как помощники палача, если не греческий «auto sacramentale»? И если Кальдерон наводнил чертями мадридский театр, разве Эсхил не наводнил фуриями афинский? И если Паскаль Вивас служит на сцене мессу, разве нет в трагедии об Эвменидах[47]47
…разве нет в трагедии об Эвменидах… – речь идет о трагедии Эсхила «Эвмениды».
[Закрыть] старой пифийской жрицы, которая совершает на сцене все свои священные обряды? Сходство представляется мне разительным.
Трагические сюжеты разрабатывались испанцами на тот же лад, что и литургические действа, с той же неправильностью, непристойностью и сумасбродством. Как бы ни был трагичен сюжет пьесы, в ней непременно присутствуют один или два шута. Мы сталкиваемся с ними даже в «Сиде»[48]48
Мы сталкиваемся с ними даже в «Сиде» – речь идет о трагедии испанского драматурга Гильена де Кастро (1569–1631) «Юность Сида».
[Закрыть]. Вполне понятно, что Корнель от них отказался.
Известна пьеса Кальдерона об Ираклии, написанная за двадцать лет до «Ираклия» Корнеля. Хоть в ней и полно несусветных бредней, но некоторые места весьма красноречивы и попадаются строки истинно прекрасные. Таково, к примеру, четверостишие, столь счастливо переведенное Корнелем:
Тебе милее казнь, чем мой престол великий?
Фока, ты нищим стал! Как ты богат, Маврикий!
Два сына спустятся в могилу за тобой,
Но не взойдет мой сын на трон вослед за мной!
(«Ираклий», IV, 4)
Предшественником Кальдерона во всех сумасбродствах этого грубого и нелепого театра был Лопе де Вега, но и он нашел их уже установившимися. Лопе де Вега такое варварство было противно, но все же он ему покорился. Он желал нравиться невежественному народу, любителю ложных чудес, который хотел, чтобы услаждали не столько его душу, сколько взор. Вот как сам Лопе де Вега говорит об этом в своем «Новом искусстве сочинять комедии»:
В далекие года вандальский сочинитель
Искусством эллинов и римлян пренебрег.
Был разумением не менее убог
Наш бедный варвар-прародитель.
Теперь в искусстве нет ни вкуса, ни ума,
А кто их сохраняет все же,
Того презренье ждет и под конец – сума.
Он в нищете умрет на одиноком ложе.
Невеждам я служу, хоть это и не гоже.
Надежно заперт Еврипид,
Софокл забыт, Теренций тоже,
Строчу, как бешеный, для дураков… О стыд!..
Лакей читателя, стараюсь и тружусь:
Он платит денежки, я угождать обязан.
Его желаниями связан,
Успеха я ищу, которого стыжусь.
Извращенный испанский вкус, в сущности, не проник во Францию, но коренной порок французского театра был более серьезным, это – скука; скуку вызывали бесконечно растянутые декламации, где не было ни связи, ни интриги, ни интереса. Написаны они были вдобавок на языке еще не сложившемся. Арди и Гарнье[49]49
Арди и Гарнье… – Арди, Александр (ок. 1560 – ок. 1630) – французский драматург, Гарнье, Робер (1534 или 1544–1590) – французский драматург и поэт, близкий к Плеяде.
[Закрыть] писали слогом нестерпимым и плоским; разыгрывались эти пошлости не в театре, а на подмостках.
Английский театр, напротив, отличался живостью, однако в испанском вкусе: шутовство сочеталось с ужасами. В сюжет одной трагедии вбиралась вся жизнь человека, действующие лица перемещались из Рима, Венеции на Кипр, самый гнусный сброд показывался на театре вместе с принцами, а принцы изъяснялись нередко языком этого сброда.
Я заглянул в издание Шекспира, выпущенное сэром Сэмюэлем Джонсоном[50]50
Джонсон, Сэмюэл (1709–1784) – английский критик, эссеист и филолог. Вольтер имеет в виду его предисловие к изданию сочинений Шекспира (1765).
[Закрыть], и увидел, что издатель говорит об «ограниченности ума» иностранцев, удивляющихся, что в пьесах великого Шекспира «римский сенатор выступает как шут, а король показывается на сцене пьяным».
Я не намереваюсь заподозрить сэра Джонсона ни в склонности к глупым шуткам, ни в чрезмерном пристрастии к вину, но я нахожу несколько странным, что он причисляет шутовство и пьянство к красотам трагического театра; не менее удивительны и его доводы. «Поэт, – говорит он, – пренебрегает случайными сословными или национальными различиями, подобно художнику, который, будучи удовлетворен тем, как он написал лицо, не обращает внимания на складки одежды». Сравнение было бы точнее, если бы он говорил о художнике, который, избрав благородный сюжет, ввел бы в него нелепый гротеск, написал, к примеру, Александра Великого в битве при Арбеллах верхом на осле или жену Дария, которая кутит с мужичьем в кабаке.
Подобных живописцев ныне нет в Европе, а если у англичан таковые имелись, то о них можно было бы сказать словами Вергилия:
Взгляните на точный перевод первых трех актов «Юлия Цезаря» Шекспира во втором томе сочинений Корнеля.
Там Кассий говорит, что Цезарь, «когда его лихорадило», «не прочь был выпить», там сапожник обещает «подбить подметки» трибуну, там можно услышать, как Цезарь восклицает, что он всегда прав, когда действует несправедливо, там же Цезарь говорит, что опасность и он явились на свет в одном помете, но поскольку он старше и поскольку опасности хорошо известно, что Цезарь более опасен, чем она, то все, что ему угрожает, следует всегда позади него.
Прочтите прекрасную трагедию «Венецианский мавр». Вы найдете в первой же сцене дочь сенатора, которая «играет с мавром в зверя о двух спинах, и от этого совокупления родятся африканские жеребцы». Вот как выражались в ту пору на трагической сцене Лондона. Гений Шекспира и не мог быть не чем иным, как только воспитанником нравов и духа эпохи. […]
Но есть нечто куда более невероятное… это то, что Шекспир все-таки гений. Итальянцы, французы, литераторы всех иных стран, не побывавшие в Англии, принимают его за ярмарочного скомороха, фигляра, стоящего куда ниже Арлекина, за презреннейшего из шутов, когда-либо развлекавших чернь. И однако у того же самого человека встречаются места, возвышающие воображение и пронзающие сердце.
Сама истина, сама природа говорят его языком без всякой примеси искусства. Это возвышенно, хотя автор не прилагает никаких усилий.
В трагедии «Смерть Цезаря»[52]52
«Смерть Цезаря» – речь идет о трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».
[Закрыть] Брут, упрекая Кассия в попустительстве хищениям, которые совершают в Азии его ближние, говорит: «Припомни мартовские иды: припомни кровь Цезаря. Мы пролили ее во имя справедливости. Неужто тот, кто нанес первые удары, кто первым наказал Цезаря за покровительство разбою, сам запятнает руки лихоимством?»
Цезарь, приняв, наконец, решение отправиться в сенат, где его должны убить, говорит так: «Трус умирает много раз задолго до смерти, а храбрый умирает только однажды. Из всего, чему я в жизни удивлялся, ничто меня не поражало больше страха. Коль скоро неизбежна смерть, так пусть она придет».
В той же пьесе Брут, вступив в заговор, говорит: сна лишился с тех пор, как заговорил об этом с Кассием. Промежуток между ужасным замыслом и его исполнением похож на страшный сон. Смерть и дух спорят в сердце, собравшись на совет. Оно потрясено, подобно стране, где вспыхнуло междоусобье».
Не следует забывать также о прекрасном и незабываемом монологе Гамлета, который был воспроизведен на французском языке[53]53
Не следует забывать также о прекрасном и незабываемом монологе Гамлета, который был воспроизведен на французском языке… – монолог Гамлета «Быть или не быть» был переведен на французский язык Вольтером в XVIII письме «Философских писем».
[Закрыть] с тщанием, коего требует язык нации, скрупулезной до чрезмерности во всем, что касается благопристойности.
Небытие иль жизнь – вот ныне выбор мой,
Страдать иль умереть – судьбины нет иной.
О небо, помоги, дай мужества и силы!
Позорный гнет сносить, смиряться до могилы,
Иль сразу кончить все, покинуть эту твердь?
Зачем же медлю я? И что такое смерть?
Предел всем горестям, мое отдохновенье,
Сон после долгого, горячечного бденья.
Уснешь – и все кругом замрет. А что, как вдруг
Сон сменится чредой неизреченных мук?
Нам с детских лет грозят, что с жизнью скоротечной
Не все кончается, что пыткой бесконечной
Загробный мир грозит. О страшный переход!
Одна лишь мысль о нем – и в сердце мрак и лед.
Но если бы не он, не этот ужас странный,
Кто стал бы жизнь терпеть, сносить ее обманы,
Лжецов-священников кощунственную ложь,
Коварство женское, заносчивость вельмож?
И кто своей души томленьем и недугом
Делился бы с пустым и равнодушным другом?
Сияла бы нам смерть, как факел, впереди…
Но страх сжимает грудь, он говорит – «Пожди!»
И бегство от скорбей несчастным запрещает,
И в робких христиан героев превращает.
Какое заключение вывести из этого контраста величия и низости, высокой разумности и грубого безумья, наконец, из всех иных контрастов, которые мы видим у Шекспира? То, что он был бы величайшим поэтом, живи во времена Аддисона.
Этот прославленный муж, чей талант расцвел в царствование королевы Анны, умел, быть может, лучше всех английских писателей поверять свой гений вкусом. У него был правильный слог, воображение, выражавшееся с чувством меры, изящность, сила и естественность в стихе и в прозе. Друг благопристойности и правил, он желал, чтобы трагедия была исполнена достоинства, и его «Катон» именно таков.
С первой строки стихи этой трагедии достойны Вергилия, а чувства – Катона. Нет в Европе театра, где сцена Юбы и Сифакса не была бы встречена аплодисментами как верх искусности, умелого развития характеров, прекрасных контрастов, чистоты и благородства слога. Литературная Европа, знакомая с пьесой по переводам, рукоплещет философским истинам, высказываемым Катоном.
Строки, которые произносит в пятом акте этот выдающийся деятель[54]54
Строки, которые произносит в пятом акте этот выдающийся деятель… – монолог Катона был переведен Вольтером в XVIII письме «Философских писем».
[Закрыть] философии и Рима, читая «Трактат о бессмертии души» Платона, тогда как на столе пред ним лежит обнаженный меч, уже давно переведены на французский. Мы должны привести их здесь.
О да, Платон, ты прав, душа не знает тленья!
Ей внятны Господа заветы и веленья:
Не потому ль она, предчувствием полна,
От благ мирских бежит и гибель ей страшна?
Века бескрайние, меня вы унесете!
Я цепи разобью и чувств моих и плоти,
И сброшу тяжкий груз всех суетных тревог,
И грозной вечности переступлю порог.
О милосердная и роковая вечность!
Сиянье и туман, провала бесконечность!
Откуда я пришел? Куда сейчас иду?
В краях заоблачных что я в тот миг найду,
Когда порвется связь со всей тщетой гнетущей?
Где будет этот дух, себя не познающий?
Каков он, мир иной, без граней и времен?
Но если есть Господь, возрадуйся, Катон!
Сомненья прочь, Он есть, и я – Его творенье.
В душе у праведных Его напечатленье,
А грешный не уйдет от страшного суда.
Но где свершится он, сей страшный суд? Когда?
Здесь целомудрие растоптано пороком.
Добро в плену у зла и слезы льет потоком,
Удача правит всем, и только жалкий тать,
Подобный Цезарю, здесь может процветать.
Так поспешим бежать на волю из темницы!
О Истина, ты мне сверкнешь, как луч денницы.
Тут, на земле, мы спим, и ты нам не видна:
Жизнь – сон, и только смерть – восстание от сна.
Пьеса имела большой и вполне заслуженный успех, в ней были прекрасные подробности, этим успехом она была обязана недвусмысленным намекам на недавно происходившие в Англии политические беспорядки, разбросанным во многих местах трагедии. Однако обстоятельства, с которыми были связаны эти намеки, канули в прошлое, и хотя стихи «Катона» красивы, а поучения благородны и справедливы, пьеса в целом холодна, так что сейчас мы ощущаем лишь ее холодность. Нет ничего прекраснее, чем вторая песнь Вергилия, но прочтите ее со сцены – она покажется скучной: сцене необходимы страсти, живой диалог, действие. Поэтому вскоре все вернулись к грубым, но привлекательным неправильностям Шекспира.
О хорошей французской трагедииЯ оставляю в стороне все посредственное; несметное множество наших слабых трагедий ужасает, ими можно заполнить сотню томов – это огромный склад скуки.
Хороших пьес или хотя бы таких, которые, не будучи полностью хорошими, содержат отличные сцены, насчитывается не более двадцати, зато смею утверждать, что это малое число замечательных произведений стоит выше всего, что было когда-либо создано в этом жанре, не исключая Софокла и Еврипида.
Свести в одно место героев древности, заставить их изъясняться французским стихом и говорить то, что им приличествует, заставить их входить и выходить, когда надлежит, заставить зал проливать из-за них слезы, одарив их чарующей речью, в которой не будет ни напыщенности, ни просторечий, нигде не нарушать пристойности и непрерывно возбуждать интерес – дело столь трудное, что произведение такого рода – истинное чудо, и остается только удивляться появлению во Франции двадцати таких чудес.
Не следует ли, однако, отдать предпочтение тем из этих шедевров, которые говорят сердцу, а не только уму? Тот, кто стремится вызвать лишь восхищение, может стяжать отзыв: «Как это прекрасно», но не заставит пролить слезы. Четыре-пять сцен, хорошо подготовленных, глубоко продуманных, мастерски написанных, вызывают своего рода почтение, но это чувство быстропреходяще, и оно оставляет душу спокойной. Есть сцены в высшей степени красивые, написанные в манере, которой даже не ведали древние, но этого мало, трагедии необходимо нечто большее, чем красота. Надлежит постепенно овладеть сердцем зрителя, взволновать его, пронзить его душу, подкрепляя эту магию соблюдением правил поэзии и всех правил театра, которые почти неисчислимы.
Посмотрим, какую пьесу, соединяющую все эти преимущества, мы можем предложить Европе.
Критики не позволят нам дать в качестве самого совершенного образца «Федру»[55]55
«Федра» – речь идет о трагедии Ж. Расина.
[Закрыть], хотя роль Федры от начала и до конца не имеет себе равных по трогательности и мастерству разработки. Они скажут, что роль Тезея слишком слаба, что Ипполит слишком француз, Арикия недостаточно трагична, Терамена можно обвинить в том, что он без удержу расточает любовные поучения своему воспитаннику; все эти слабости, по правде говоря, украшены слогом столь чистым и трогательным, что, читая пьесу, я их не замечаю. Но попытаемся все же найти такую пьесу, которую по справедливости нельзя упрекнуть ни в чем.
Не такова ли «Ифигения в Авлиде»[56]56
«Ифигения в Авлиде» – речь идет о трагедиях Ж. Расина.
[Закрыть]? С первой строки я чувствую себя заинтересованным и растроганным, мое любопытство возбуждено уже стихами, которые произнесены одним из военачальников Агамемнона, гармоничными, чарующими стихами, каких не создавал в ту пору ни один поэт.
Рассвет едва блеснул – ваш факел, мой вожатый.
Одни мы бодрствуем в Авлиде, сном объятой.
Ни разу в темноте не шелохнулся лист.
Всю ночь и ветр был нем и свод небесный чист.
Войска, Нептун и ветр в объятьях дремы темной.
[…] Какие чувства! Какие прекрасные стихи! Какая естественность!
Не могу удержаться от того, чтобы не прервать себя на мгновение и не поведать миру, что некий шотландский судья[57]57
…некий шотландский судья… – речь идет о Генри Хоуме, лорде Кейме, шотландском адвокате, моралисте и критике (1696–1782), авторе труда «Основы критики» (1762).
[Закрыть], удостоивший свою страну сводом правил поэзии и вкуса, заявляет в главе двадцать первой «Повествований и описаний», что ему отнюдь не нравится строка:
Войска, Нептун и ветр в объятьях дремы темной.
Если бы он знал, что этот стих воспроизводит стих Еврипида, он, возможно, пощадил бы его, но он предпочитает ответ солдата в первой сцене «Гамлета».
Все, как мышь, притихло.
«Вот где естественность, – говорит он, – вот как должен отвечать солдат». Да, господин судья, в казарме, но не в трагедии; знайте, что французы, на которых вы обрушиваетесь, приемлют простоту, но не низменность и грубость. Следует прежде удостовериться в безупречности собственного вкуса, а потом уж выдавать его суждения за закон, мне, право, жаль тяжущихся, если вы их судите так, как судите стихи. Но вернемся к «Ифигении».
Найдется ли обладающий здравым смыслом и чувствительным сердцем человек, который с восторгом, смешанным с жалостью и страхом, не слушает рассказа Агамемнона, не ощущает, что стихи Расина проникают в глубину его души? Интерес, беспокойство, тревога возрастают после третьей сцены, когда Агамемнон оказывается между Ахиллом и Улиссом.
Страх – эта душа трагедии – усиливается в следующей сцене. Улисс стремится убедить Агамемнона принести Ифигению в жертву интересам Греции. Роль Улисса отвратительна, но восхитительное искусство Расина сообщает ей интерес.
Я слаб, как слабы все, и я отец к тому же:
Удар, постигший вас, в меня вселяет ужас.
Стенания отца могу ли осуждать?
Нет, вместе с вами я и сам готов рыдать!
Ифигению обрекли на смерть уже в первом акте, Ифигению, у которой столько оснований льстить себя надеждой стать супругой Ахилла; ее предадут закланию на том самом алтаре, пред которым она собиралась обручиться с возлюбленным. […]
С искусством, достойным его гения, Расин во втором акте выводит на сцену Эрифилу прежде, чем мы видим Ифигению. Если бы счастливая возлюбленная Ахилла предстала зрителю первой, Эрифила, ее соперница, показалась бы несносной. Эта роль непременно нужна в пьесе, поскольку подводит ее к развязке, она же – главная пружина действия, именно Эрифила, сама того не ведая, поселяет жестокие сомнения в сердце Клитемнестры и вызывает ревность Ифигении; достойно еще большего восхищения то искусство, с которым Расин заинтересовывает зрителя в судьбе самой Эрифилы. Она всегда была несчастна, она не знает родителей, она была пленена на пепелище родного города, ее тревожит мрачное предсказание оракула, и в довершение всех бед она невольно воспылала страстью к тому самому Ахиллу, чьей пленницей является.
Он долго нес меня, в объятиях сжимая,
А я, без чувств, без сил была как неживая,
Потом пришла в себя в безжалостных руках,
И в сердце мне заполз невыразимый страх:
Ужель придется мне, дрожа и холодея,
Увидеть этот лик, ужасный лик злодея?
На ненавистного я глаз не подняла
И на корабль его, отворотясь, взошла.
Потом узрела. Нет, не страшен он, Дорида!
Что я могу сказать? Горчайшая обида
Рассеялась как дым, и гнев совсем погас,
И слезы хлынули из помраченных глаз.
Нельзя не признать, что таких стихов до Расина не писали; не только никто не ведал пути к сердцу, но почти никто не ведал и тонкостей стихосложения, искусства метрической паузы.
Потом узрела. Нет, не страшен он, Дорида!
Никто не знал счастливого сочетания долгих и кратких слогов, согласных звуков с последующими гласными, которые сообщают стиху плавность течения и доставляют неизъяснимое удовольствие чувствительному и верному слуху.
Сколь нежное и пленительное впечатление производит вслед за тем появление Ифигении! На глазах у той же Эрифилы она устремляется к отцу – отцу, принявшему, наконец, решение принести ее в жертву; каждое слово этой сцены поворачивает кинжал в сердце, в словах Ифигении нет никаких преувеличений, как у Еврипида: «Я хотела бы быть безумной, чтобы вас развеселить, чтобы вам понравиться». Во французской пьесе все благородно, трогательно, просто. Сцена завершается ужасными словами: «Дитя, тебе пойти придется!» Смертный приговор вынесен, все сказано.
Утверждают, что эти душераздирающие слова есть и у Еврипида, нам прожужжали об этом уши. Нет, у него таких слов нет. В наш век пора уже нам избавиться от досадного упорства вечно превозносить греческий театр в ущерб театру французскому. […]
После различных естественных и умело подготовленных автором событий, способствующих усложнению завязки, мы видим на сцене Клитемнестру, Ифигению, Ахилла в радостном ожидании свадьбы; присутствие Эрифилы и контраст ее страданий с веселостью матери и обоих влюбленных усиливает красоту сцены. Появляется Аркас, вестник Агамемнона; он пришел сообщить, что все готово для счастливого свадебного обряда. Но какой удар!
Он ждет у алтаря… чтобы ее заклать…
В один стих сливаются восклицания Ахилла, Клитемнестры, Ифигении, Эрифилы, выражающие их противоречивые чувства. Клитемнестра падает к ногам Ахилла:
…Не вспоминай моей былой гордыни:
Уничижение мне подобает ныне…
К тебе бежали мы, но именем твоим
Ее влекут на смерть. Иль ты неумолим?
Скажи, что делать ей? У алтаря молиться, –
Там, где ее же кровь должна сейчас пролиться?
Она твоя, твоя! Теперь лишь ты один
Ее отец, супруг, опора, господин!
Вот истинная трагедия! Прекрасная в любые времена, для любой нации! Горе варварам, которых эти пленительные совершенства не растрогали бы до глубины души!
Я знаю, что в трагедии Еврипида уже заключен прообраз этой ситуации, однако там он подобен мрамору в карьере, Расин же воздвиг дворец.
Поразительно, хотя и достойно комментаторов, настроенных всегда несколько враждебно к собственному отечеству, что иезуит Брюмуа в «Рассуждении о театре греков» делает такое критическое замечание: «Предположим, что Еврипид явился с того света и посетил представление „Ифигении“ г-на Расина… не возмутит ли его Клитемнестра у ног Ахилла, поднимающего ее, и множество иных вещей, которые имеют отношение либо к нашим нравам, на наш взгляд, более цивилизованным, нежели нравы древности, либо к правилам благопристойности?» и т. д.
Читатели, обратите внимание на то, что Клитемнестра и у Еврипида бросается в ноги Ахиллу и при этом даже не сказано, что он ее поднимает.
Получается, что во «множестве иных вещей, которые имеют отношение к нашим нравам» Еврипид не грешил против обычаев Франции, а Расин – против обычаев Греции. Доверяйте после этого уму и справедливости комментаторов.
Поскольку в этой трагедии интерес разгорается от сцены к сцене, которые одна совершеннее другой, решающая сцена Агамемнона, Клитемнестры и Ифигении возвышается надо всем, что мы видели ранее. Ничто не производит на театре большего впечатления, нежели персонажи, сначала прячущие страдания в глубине души, а затем позволяющие вырваться наружу тем чувствам, которые их обуревают; сердце зрителя разрывается между жалостью и ужасом, когда Агамемнон, сам удрученный горем, является за дочерью, чтобы вести ее к алтарю под предлогом, что вручит ее герою, с которым она обручена. И Клитемнестра отвечает ему прерывающимся голосом:
Готова дочь моя. Идем, но только, мнится, ты кое-что забыл, супруг мой.
Агамемнон.
Я, царица? Не понимаю.
Клитемнестра.
Все ль ты приготовил,
царь?
Агамемнон.
Калхас давно пришел,
и весь в цветах алтарь.
Я делаю лишь то, что долг повелевает.
Клитемнестра.
А жертва? Мой супруг о жертве забывает.
Слов: «А жертва? Мой супруг о жертве забывает» – у Еврипида нет. Известно, сколь возвышенно продолжение сцены, но это не выспренность декламации, не выспренность изысканных мыслей или словесных преувеличений, это возвышенность отчаяния матери в самом проникновенном и самом ужасном своем выражении, возвышенность благородных и трогательных чувств юной принцессы, ощущающей свое злосчастие. В следующей сцене Ахилл выказывает гордость, возмущение, ярость разгневанного героя, при этом Агамемнон нисколько не теряет достоинства, а это было всего труднее.
Никогда Ахилл не был более Ахиллом, нежели в этой трагедии. Иноземцы не смогут сказать о нем того, что они говорят об Ипполите, Ксифаресе, Антиохе, царе Комагены, даже о Баязете[58]58
Ипполт, Ксифарес, Антиох, Баязет – герои трагедий Расина.
[Закрыть]; они именуют их мсье Баязет, мсье Антиох, мсье Ксифарес, мсье Ипполит и, признаюсь, не без оснований. Эта слабость Расина – дань, уплаченная нравам его эпохи, галантности двора Людовика XIV, вкусам, которые были почерпнуты французами из романов, и даже образцам, созданным самим Корнелем, не сочинившим ни одной трагедии, где не было бы любви и, более того, сделавшим эту страсть основной пружиной таких трагедий, как «Полиевкт, подвижник и мученик», «Аттила, король гуннов» и о святой Теодоре…
Лишь в последние годы французы осмеливаются сочинять светские трагедии без любовной интриги. Нация столь привыкла к этой безвкусице, что еще в начале нашего века рукоплескала влюбленной Электре и четырехугольнику двух влюбленных пар[59]59
…рукоплескала влюбленной Электре и четырех угольнику двух влюбленных пар… – речь идет о трагедии Кребийона «Электра».
[Закрыть] в трагедии на самый ужасающий сюжет античности, меж тем как «Электра» Лонжпьера была освистана, и не только потому, что отличалась декламацией на античный лад, но и потому, что в ней вовсе не говорилось о любви.
Во времена Расина, да и позднее, почти до нашего времени, главными персонажами на театре были «любовник» и «любовница», как в ярмарочных балаганах – Арлекин и Коломбина. Актера так и брали на роль любовника.
Ахилл любит Ифигению, таков его долг, он смотрит на нее как на свою жену, но гордость и ярость в нем сильнее нежности, он любит, как должно любить Ахиллу, и говорит, как говорил бы у Гомера, будь тот французом.
Г. Люно де Буажермен, издавший Расина со своими комментариями, хотел бы, чтобы развязка «Ифигении» совершалась на сцене. «Мы можем сожалеть лишь об одном, – говорит он, – о том, что Расин писал свою пьесу во времена, когда сцена не была, как теперь, очищена от толпы зрителей, некогда заполнявших ее; поэт не преминул бы показать в действии ту развязку, о которой ныне только рассказывается. Мы увидели бы на одной стороне сцены убитого горем отца, совершенно потерянную мать, двадцать царей, застывших в ожидании, алтарь, костер, жреца, нож, жертву – и какую жертву! А на другой – угрожающего Ахилла, мятежную армию, кровь, готовую вот-вот пролиться; тут появлялась бы Эрифила, Калхас указывал бы на нее, как на единственную причину небесного гнева, и эта принцесса, схватив священный нож, вскоре испускала бы дух от нанесенных ею себе ударов».