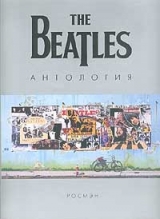
Текст книги "The Beatles. Антология"
Автор книги: The beatles
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 50 страниц)
Антология The Beatles
Примечание от редакции
Об ансамбле «Битлз» написано множество книг. Эта отличается от остальных тем, что сами «Битлз» изложили свою версию событий вплоть до 1970 года.
Цитаты Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра, а также дополнения Нила Аспиналла, сэра Джорджа Мартина и Дерека Тейлора взяты отчасти из интервью, на основе которых созданы телевизионные и видеоверсии "Антологии "Битлз". Кроме того, в книгу включены важные материалы, публикуемые впервые. Специально для "Антологии" были проведены подробные интервью с Полом, Джорджем и Ринго.
Текст, приписываемый Джону Леннону, взят из обширных источников, которые собирались в течение нескольких лет по всему миру опять-таки специально для этой книги. К этим источникам относятся печатные материалы и видеозаписи, частные и публичные архивы. Материалы расположены в хронологическом порядке и таким образом, чтобы повествование получилось связным. Чтобы читатель мог воспринимать слова Джона в соответствии с конкретным периодом, каждая цитата снабжена датой, когда она была произнесена, записана или впервые опубликована. Годы обозначены только двумя последними цифрами: к примеру, 1970 год обозначен в тексте как (70). Эти даты относятся ко всему текстовому фрагменту, вплоть до указанной даты.
Лишь в нескольких случаях не удалось точно датировать цитаты (несмотря на то, что они содержат подлинные слова Джона). Они включены в книгу без указания даты.
С целью создания дополнительного исторического контекста здесь же приводятся подлинные слова Пола, Джорджа, Ринго и других, относящиеся к периоду до 1970 года. Они также обозначены двумя последними цифрами, как и слова Джона.
Во время работы над "Антологией" Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр предоставили в распоряжение составителей свои личные архивы. Более того, был получен неограниченный доступ к фотографиям и документам из архива компаний "Apple" и "EMI".
Эта книга была подготовлена к публикации сотрудниками редакции "Genesis Publications" для компании "Apple" при активной помощи ныне покойного Дерека Тейлора, который консультировал составителей до самой своей смерти в 1997 году.
Джон Леннон
Что я могу рассказать о себе такого, чего бы вы ещё не знали?
Я ношу очки. Родившись 9 октября 1940 года, я появился на свет вовсе не первым из "Битлз". Первым из нас родился Ринго – 7 июля 1940 года. Впрочем, к "Битлз" он присоединился позднее остальных, а до этого он не только отпустил бороду, но и успел поработать барабанщиком в кемпинге "Батлинз". Занимался он и другой ерундой, пока наконец не понял, что уготовила ему судьба.
Девяносто процентов жителей нашей планеты, особенно на Западе, родилось благодаря бутылке виски, выпитой субботним вечером; иметь таких детей никто не собирался. Девяносто процентов нас, людей появилось на свет случайно – я не знаю ни единого человека, который планировал обзавестись ребенком. Все мы – порождения субботних вечеров (80).
Моя мать была домохозяйкой. А еще она была комедийной актрисой и певицей – не профессиональной, но она часто выступала в пабах и тому подобных заведениях; Она неплохо пела, умела подражать Кей Старр. Одну песенку она часто пела, когда мне был один год или два. Это мелодия из диснеевского фильма: "Хочешь, я тебе открою тайну? Только никому не говори. Ты стоишь возле колодца желаний" (80).
Мои родители расстались, когда мне было четыре года, и я жил с тетей Мими (71).
Мими объяснила, что мои родители разлюбили друг друга. Она никогда ни в чем не обвиняла их. Вскоре я забыл отца. Как будто он умер. Но маму я вспоминало постоянно, моя любовь к ней никогда не умрет.
Я часто думал о ней, но долгое время не понимал, что она живет на расстоянии всего пяти или десяти миль от меня (67).
Моя семья состояла из пяти женщин. Пяти сильных, умных, красивых женщин, пяти сестер. Одной из них была моя мать. Маме жилось нелегко. Она была младшей, не могла воспитать меня одна, и потому я поселился у ее старшей сестры.
Это были удивительные женщины. Пожалуй, когда-нибудь я напишу о них что-нибудь вроде "Саги о Форсайтах", потому что именно они властвовали в семье (80).
Мужчины оставались невидимыми. Меня всегда окружали женщины. Я часто слушал их разговоры о мужчинах и жизни, они всегда были в курсе всех дел. А мужчины никогда ничего не знали. Так я получил свое первое, феминистское образование (80).
Больнее всего быть нежеланным, сознавать, что родители не нуждаются в тебе так, как ты нуждаешься в них. В детстве у меня бывали минуты, когда я упорно не замечал этой уродливости, не хотел видеть, что я нежеланный. Эта нехватка любви вливалась в мои глаза и в мой разум.
По-настоящему я никогда и никому не был нужен. Звездой я стал только потому, что сдерживал чувства. Ничто не помогло бы мне пережить все это, будь я "нормальным" (71).
Порой я даже радовался тому, что у меня нет родителей. Родные большинства моих друзей мало чем напоминали человеческие существа. Их головы были забиты мелочными буржуазными опасениями. А мою переполняли мои собственные мысли и идеи. Я жил развлекаясь и втайне мечтал найти того, с кем можно поделиться мыслями. Большинство людей я считал мертвыми. Немногих – полумертвыми. Любого пустяка хватало, чтобы рассмешить их (78).
Большинство людей всю жизнь находятся под чужим влиянием. Некоторые никак не могут понять, что родители продолжают мучать их, даже когда их детям переваливает за сорок или за пятьдесят. Их по-прежнему душат, распоряжаются их мыслями и разумом. Этого я никогда не боялся и никогда не пресмыкался перед родителями (80).
Пенни-Лейн – район, где я жил с матерью, отцом (впрочем, мой отец был матросом и почти все время проводил в море) и дедом. Мы жили на улице Ньюкасл-Роуд (80).
Это первый дом, который я помню. Удачный старт: красные кирпичные стены, гостиная, которой никогда не пользовались, задернутые шторы, картина с изображением коня и кареты на стене. Наверху помещалось только три спальни; окна одной выходили на улицу, второй – во двор, а между ними была еще одна крохотная комнатка (79).
Когда я расстался с Пенни-Лейн, я переселился к тете, которая тоже жила в пригороде, в стоящем на полуотшибе доме с маленьким садом. По соседству жили врачи, юристы и прочие люди такого сорта, поэтому пригород ничем не напоминал трущобы. Я был симпатичным, аккуратно подстриженным мальчишкой из предместья, рос в окружении классом повыше, чем Пол, Джордж и Ринго, которые жили в муниципальных домах. У нас был собственный дом, свой сад, а у них ничего подобного не было. По сравнению с ними мне повезло. Только Ринго был настоящим городским мальчишкой. Он вырос в самом дрянном районе. Но его это не заботило; вероятно, там ему жилось веселее (64).
Вообще же первое, что я помню, это ночной кошмар (79).
Я вижу цветные сны, всегда сюрреалистичные. Мир моих сновидений похож на картины Иеронима Босха и Дали. Он нравится мне, я с нетерпением жду его каждый вечер (74).
Один из часто повторяющихся снов, который я вижу на протяжении всей жизни, – это полет. Я всегда летаю, когда мне грозит опасность. Помню, еще в детстве я летал во сне, будто плыл по воздуху. Обычно я летал над хорошо знакомыми местами, там, где я жил. А иногда мне снились кошмары, в которых на меня надвигался гигантский конь или еще что-нибудь страшное, а мне приходилось улетать. Когда такие сны мне снились в Ливерпуле, я объяснял их своим желанием покинуть город (71).
В самых ярких сновидениях я видел себя сидящим в самолете, который пролетал над каким-нибудь районом Ливерпуля. Впервые я увидел этот сон, когда учился в школе. Самолет летал над городом кругами, поднимаясь все выше и выше.
Еще в одном классном сне я нахожу тысячи монет достоинством полкроны. А иногда я нахожу в старых домах клады – такие огромные, что мне их не унести. Я рассовываю монеты по карманам, нагребаю полные пригоршни, складываю их в мешки, но мне никогда не удается унести с собой столько денег, сколько мне хочется. Наверное, этот сон – отражение неосознанного стремления возвыситься или вырваться из нищеты (66).
Поиски выхода снятся нам до тех пор, пока мы не находим его физически. Я его нашел (68).
К своему родному городу я отношусь точно так же, как любой другой человек. Я встречал людей, которые терпеть не могут города, где родились и выросли. Наверное, потому, что там им жилось паршиво. Мое детство в Ливерпуле было счастливым и здоровым, и мне нравится вспоминать о нем. Это не помешало мне уехать и жить в другом месте, и все-таки моим родным городом остается Ливерпуль (64).
В Ливерпуль съезжаются ирландцы, когда у них кончается картошка, здесь же оседают чернокожие и трудятся, как рабы. Среди нас было немало потомков ирландцев, негров, китайцев и так далее.
Ливерпуль – бедный, почти нищий город, здесь живется нелегко. Но его жителям присуще чувство юмора, потому что они часто страдают; они постоянно сыплют шутками. Ливерпульцы на редкость остроумны (70). А еще почти все они говорят немного в нос – наверное, из-за аденоидов (64).
Ливерпуль – второй по величине порт Англии. В XIX веке деньги делали на севере. Именно там жили отважные, грубоватые люди, среди которых часто попадались ничтожества. На нас, как на диковинных зверей, смотрели сверху вниз южане, лондонцы (70).
[В Вултоне] было два знаменитых дома. Один – принадлежащее Гладстону исправительное заведение для мальчиков – был виден из моего окна. А за углом стоял дом под названием "Земляничная поляна" – старый викторианский особняк, превращенный в сиротский приют Армии спасения (наверное, раньше здесь была ферма, где выращивали землянику). В детстве я часто бывал там на садовых праздниках вместе с моими друзьями – Айвеном, Найджелом и Питом. Все мы подолгу болтались там и продавали лимонад в бутылках. Вот где всегда было весело! (80)
В детском саду я тосковал. Я был не такой, как остальные. Всю жизнь я был не таким, как все. Это не тот случай, когда "потом он закинулся кислотой и проснулся" или "затем он выкурил косячок и пришел в себя". Каждый пустяк имеет такое же значение, как все остальное. На меня оказывали влияние не только Льюис Кэрролл и Оскар Уайльд, но и малолетние хулиганы, росшие бок о бок со мной и рано или поздно угодившие за решетку. С той же проблемой я столкнулся, когда мне было пять лет: "Со мной что-то не так, потому что я вижу то, чего не видят остальные" (80).
Я всегда был домоседом – думаю, как и множество других музыкантов, ведь музыку пишешь и играешь дома. В детстве мне хотелось быть художником или писать стихи, чтобы всегда быть дома (80).
На чтение я тратил уйму времени. Мне никогда не надоедало сидеть дома. Это мне нравилось. Это я любил, наверное, потому, что рос единственным ребенком. Хотя у меня были сводные сестры, я жил один. Я играл сам с собой или сидел, уткнувшись носом в книгу (71).
Я всегда мечтал стать художником и жить в маленьком коттедже у пустынной дороги. Для меня главное – написать короткое стихотворение или несколько картин маслом. Это похоже на сон – жить в коттедже и бродить по лесу (69).
Я обожал "Алису в стране чудес" и нарисовал все персонажи этой книги. Я писал стихи в стиле "Бармаглота". Мне нравилась и "Алиса", и "Просто Уильям". Я сам сочинял приключения Уильяма, только главным героем в них был я. И "Ветер в ивах" мне нравился. Прочитав эту книгу, я заново пережил ее. Это одна из причин, по которой в школе мне хотелось быть заводилой. Я хотел, чтобы все играли в те игры, в которые хотелось играть мне, в те, о которых я только что прочел (67).
На протяжении всех лет учебы в "Давдейле" [начальной школе] я дрался, побеждая тех, кто был сильнее, с помощью "психических атак". Я уверенно заявлял, что побью их, и они верили, что я на такое способен (67).
Поскольку я не был привязан к родителям, я умел оказывать влияние на других мальчишек. Это подарок, который мне достался, – отсутствие родителей. Я часто плакал оттого, что у меня их нет, но вместе с тем с радостью сознавал, что у меня не все так, как у других (80).
Однажды в меня стреляли за кражу яблок. Я часто подворовывал вместе с другом. А еще мы катались на задних буферах трамваев, ходивших по Пенни-Лейн, и проезжали целые мили, ничего не заплатив. Меня все время била дрожь – так мне было страшно. Однажды я вообще чуть не свалился, катаясь таким образом (67).
Среди своих сверстников я был большой шишкой. Я очень рано узнал уйму скабрезных шуток – их рассказывала мне девочка-соседка (67).
Никто не объяснял мне, что такое секс. Я узнал о нем из надписей на стенах. К восьми годам я уже знал все. Все демонстрировалось наглядно, все видели похабные рисунки, знали наперечет всевозможные извращения и гадости. Когда мы избавимся от угрызений совести и лицемерия, секс займет по праву принадлежащее ему место в обществе, станет неотъемлемой частью жизни.
Эдинбург – моя заветная мечта. Эдинбургский фестиваль и парад в замке. Туда съезжаются оркестры всех армий мира, маршируют и играют. Всем нравились американцы, потому что они классно держали ритм, но еще лучше играли шотландцы. Я помню, какой восторг охватывал меня, особенно в самом конце, когда выключали свет и один парень играл на волынке, освещенный одним-единственным прожектором. Вот это было да! (79)
С раннего детства я был музыкальным и до сих пор удивляюсь тому, что этого никто не замечал и ничего не предпринимал, – может, потому, что это была непозволительная роскошь (65).
[Однажды в детстве] я сам отправился в Эдинбург в гости к тете и всю дорогу играл в автобусе на губной гармошке. Водителю понравилось, и он пообещал завтра утром встретиться со мной в Эдинбурге и подарить мне новую, классную гармошку. Это ободрило меня. А еще у меня был маленький аккордеон, на котором я играл одной правой рукой. Я играл те же мелодии, что и на губной гармошке: "Шведскую рапсодию", "Мулен-Руж", "Зеленые рукава" (71).
Не помню, откуда она [губная гармоника] взялась у меня. Наверное, я выбрал самый дешевый из инструментов. Мы часто болтали со студентами, у одного из них была гармошка, и он сказал, что купит мне такую же, если к следующему утру я разучу песню. А я разучил целых две. В то время мне было лет восемь-двенадцать. Словом, я еще ходил в коротких штанишках.
В Англии есть экзамен, о котором каждому ребенку твердят с пятилетнего возраста. Он называется экзаменом для одиннадцатилетних. Если ты не сдашь экзамен для одиннадцатилетних, можешь считать, что твоя жизнь кончена. Это был единственный экзамен, который я когда-либо сдал, да и то с перепугу.
(После экзамена учитель обычно говорит, что теперь ты можешь делать все, что хочешь. И я начал рисовать.) (74)
Я смотрел на сотни незнакомых детей [в средней школе "Куорри-бэнк"] и думал: "Черт, с этой толпой мне придется драться всю жизнь", – совсем как в "Давдейле". Там было несколько настоящих крепышей. Первую же свою драку я проиграл. Я растерялся, когда мне стало по-настоящему больно. Впрочем, всерьез драться мне не пришлось: я только бранился, орал, пытался увернуться от ударов. Мы дрались до первой крови. С тех пор, когда мне казалось, что противник сильнее меня, я предлагал: "Давай лучше бороться…"
Я был агрессивным, потому что стремился к популярности. Мне хотелось быть лидером. Это лучше, чем всю жизнь оставаться размазней. Я хотел, чтобы все исполняли мои приказы, смеялись над моими шутками и считали меня главным. Поначалу я пытался вести себя как в "Давдейле". Там я хотя бы был честным, всегда во всем признавался. Но потом я понял, что это глупо, что этим я ничего не добьюсь. И я начал врать по любому поводу.
Мими только однажды выпорола меня – за то, что я стащил деньги у нее из сумочки. Я часто брал у нее понемногу на всякие мелочи вроде машинок "Динки", а в тот день, должно быть, украл слишком много (67).
Когда мне было лет двенадцать, я часто думал о том, что я, наверное, гений, но этого никто не замечает. Я думал: "Я или гений, или сумасшедший. Который из них? Сумасшедшим я быть не могу, потому что не сижу в психушке. Значит, я гений". Я хочу сказать, что гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия. Все мы такие, но я немного стеснялся этого, как, например, своей игры на гитаре. Если гении и существуют на свете, то я один из них. А если их не существует, мне все равно. Так я думал в детстве, когда писал стихи и рисовал картины. Таким я стал не потому, что появились "Битлз", – я всю жизнь был таким. А еще гениальность – это страдание. Просто страдание (70).
Я часто размышлял: "Почему я до сих пор не признан? Неужели никто не видит, что я умнее всех в этой школе?" (70)
Просматривая свой табель успеваемости, я видел одно и то же: "Слишком самодоволен и пытается скрыть это бесконечными шуточками" или: "Вечно о чем-то мечтает" (80).
Я мечтал все годы учебы в школе. Двадцать лет я пробыл в трансе, потому что невыносимо скучал. Из транса я выходил только вне школы – когда бывал в кино или просто гулял (80).
Я часто злил старших, цитируя иронические стихи "Счастливый бродяга" в самые неподходящие моменты. Они зачаровывали меня. Мне казалось, читать их – все равно что жевать шоколад во время молитвы или пытаться утопить инструктора по плаванию. Словом, это было идиотской, безрассудной выходкой (63).
Один учитель математики написал обо мне: "Если он не свернет с этой дорожки, то и впредь будет катиться по наклонной плоскости". Большинство учителей терпеть меня не могли, а я с радостью напоминал им о том, что они меня ненавидят.
Но в каждой школе был хотя бы один хороший учитель – обычно это был учитель рисования, английского языка или литературы. Я успевал по всем предметам, связанным с искусством или литературой, но то, что касалось естественных наук или математики, я никак не мог понять (71).
Когда мне было пятнадцать лет, я думал: "Разве не здорово будет, если я когда-нибудь вырвусь из Ливерпуля и стану богатым и знаменитым?" (75)
Мне хотелось написать "Алису в Стране Чудес", но стоит подумать: "Мне ни за что не превзойти Леонардо", – и постепенно склоняешься к мысли: "Что толку стараться?" Множество людей выстрадали больше, чем я, и многого добились (71).
Я бы не сказал, что я прирожденный писатель, – я прирожденный мыслитель. В школе меня всегда считали способным: когда от нас требовалось вообразить что-нибудь, вместо того чтобы зазубривать, я справлялся с заданием (64).
В школе мы много рисовали и раздавали эти рисунки. У нас слепые собаки были поводырями зрячих (65).
Наверное, у меня есть склонность к черному юмору. Это началось еще в школе. Как-то однажды мы возвращались домой после актового дня – торжественного школьного собрания в конце учебного года. Ливерпуль кишит калеками, люди ростом с метр обычно продают газеты. Прежде я никогда не обращал на них внимания, но в тот день они попадались повсюду. Это становилось все забавнее, и мы хохотали до упаду. По-моему, это один из способов скрыть свои чувства, замаскировать их. Обидеть калеку я не смог бы ни за что. Просто мы так шутили, таков был наш образ жизни (67).
Все дети рисуют и пишут стихи, некоторые занимаются этим до восемнадцати лет, но большинство перестают лет в двенадцать, услышав от кого-нибудь: "Ничего у тебя не выходит". Это нам твердят всю жизнь: "У тебя нет способностей. Ты сапожник". Такое случается со всеми, но если бы кто-нибудь постоянно повторял мне: "Да, ты великий художник", – я чувствовал бы себя гораздо более уверенным в себе (69).
Нам необходимо время, чтобы развиваться, надо поощрять нас заниматься тем, что нам интересно. Меня всегда интересовала живопись, я не утратил этого увлечения, но до него никому не было дела (67).
Когда меня спрашивали: "Кем ты хочешь стать?" – я отвечал: "Наверное, журналистом". Я ни за что не осмелился бы сказать "художником", потому что в том кругу, где я вырос, – так я объяснял тете, – о художниках читают, их картинами восхищаются в музеях, но никто не желает жить с ними в одном доме. Поэтому учителя говорили: "Выбери что-нибудь попроще". В свою очередь, я спрашивал: "А что я могу выбрать?" Мне предлагали стать ветеринаром, врачом, дантистом, юристом. Но я знал, что об этом мне нечего и мечтать. Выбирать мне было не из чего (80).
В пятидесятые годы популярностью пользовались ученые. А всех людей искусства считали шпионами и продолжают считать (80).
Даже в школе искусств из меня пытались сделать учителя, отговаривали меня заниматься живописью и твердили: "Почему бы тебе не стать учителем? Тогда по воскресеньям ты смог бы рисовать". Но я наотрез отказывался (71).
В школе я узнал, насколько несправедливо общество. Я бунтовал, как все мои сверстники, все те, кто не вписывался в школьные рамки, и потому в каждом моем табеле из школы "Куорри-бэнк" можно найти слова: "Способный, но не старательный". Я был на редкость агрессивным школьником. Я один из типичных героев, представителей рабочего класса. Я был таким же революционером, как Д. Г. Лоуренс: я не верил в классы и боролся против классовой структуры общества (69).
Я всегда был бунтарем, потому что все, что касалось общества, становилось для меня поводом для мятежа. С другой стороны, я хотел, чтобы меня любили и признавали. Потому я и оказался на сцене, словно дрессированная блоха. Мне просто хотелось быть чем-то. Отчасти я мечтал о признании во всех слоях общества и не желал быть только крикуном, безумцем, поэтом и музыкантом. Но нельзя быть тем, кем ты не являешься. Так что же делать, черт возьми? Ты хочешь быть, но не можешь просто потому, что не можешь (80).
В школе я был задирой, но умел и притворяться задиристым. Этим я часто навлекал на себя неприятности. Я одевался, как стиляга, но, когда попадал в опасные районы и сталкивался с настоящими стилягами, мне явно грозила опасность. В школе все было проще: я сам контролировал ситуацию и делал все, чтобы все считали меня грубее, чем есть на самом деле. Это была игра. Мы обворовывали магазины и тому подобное, но не совершали по-настоящему серьезных преступлений. Ливерпуль – суровый город. Там жило множество настоящих стиляг, которым было лет по двадцать. Они работали в доках. Нам же было всего по пятнадцать, мы оставались детьми, а у них были ножи, ремни с пряжками, велосипедные цепи и настоящее оружие. С такими противниками мы никогда не связывались, а если случайно сталкивались с ними, то я и мои товарищи просто убегали (75).
Банда, которую я собрал, промышляла магазинными кражами и стаскивала трусики с девчонок. Когда нас ловили с поличным, попадались все, кроме меня. Иногда мне становилось страшно, но из наших родителей только Мими ни о чем не подозревала. Большинство учителей ненавидело меня всей душой. Я взрослел, наши выходки становились все отчаяннее. Теперь мы не просто тайком набивали карманы конфетами в магазинах – мы ухитрялись утащить столько, что потом перепродавали краденое, к примеру сигареты (67).
На самом деле никакой я не крутой. Но мне всегда приходилось носить маску крутого, это была моя защита от других. На самом деле я очень ранимый и слабый (71).
Пожалуй, у меня было счастливое детство. Я вырос агрессивным, но никогда не чувствовал себя несчастным. Я часто смеялся (67).
Мы [муж Мими и я] неплохо ладили. Он был славным и добрым. [Когда] он умер, я не знал, как вести себя в присутствии людей, что делать, что говорить, и потому убежал наверх. А потом пришла моя кузина и тоже спряталась наверху. С нами случилась истерика. Мы смеялись как сумасшедшие. А потом мне было очень стыдно (67).
Мими по-своему воспитывала меня. Она хотела сохранить дом и, чтобы не разориться, сдавала комнаты студентам.
Она всегда хотела, чтобы я стал регбистом или фармацевтом. А я писал стихи и пел с тех пор, как поселился у нее. Я постоянно спорил с ней и твердил: "Послушай, я художник, не приставай ко мне со всякой математикой. Даже не пытайся сделать из меня фармацевта или ветеринара – на такое я не способен".
Я часто повторял: "Не трогай мои бумаги". Однажды, когда мне было четырнадцать лет, я вернулся домой и обнаружил, что она перерыла все мои вещи и выбросила все стихи. И я сказал: "Когда я стану знаменитым, ты еще пожалеешь о том, что натворила" (72).
Я не раз слышал такие стишки… ну, от которых сразу возбуждаешься. Мне стало интересно узнать, кто их пишет, и однажды я решил попробовать написать такой стих сам. Мими нашла его у меня под подушкой. Я объяснил, что переписал его специально для одного мальчишки, у которого плохой почерк. Но на самом деле, конечно, я написал его сам (67).
Когда я сочинял серьезные стихи, а позднее стал изливать свои чувства, я записывал их тайным почерком, каракулями, чтобы Мими не смогла разобрать его (67).
Моя мать [Джулия] однажды зашла к нам. Она была в черном пальто, по ее лицу текла кровь. С ней что-то случилось. Этого я не вынес. Я думал: "Вот мама, и у нее все лицо в крови". Я убежал в сад. Я любил ее, но не хотел вникать, что к чему. Наверное, в нравственном отношении я был трусом. Я стремился скрывать свои чувства (67).
Джулия подарила мне первую цветную рубашку. Я начал бывать у нее дома, познакомился с ее новым приятелем и понял, что он ничтожество. Я прозвал его Психом. Для меня Джулия стала чем-то вроде молодой тети или старшей сестры. Взрослея, я все чаще ссорился с Мими и потому на выходные уходил к Джулии (67).
[Психа звали] Роберт Дайкинс или Бобби Дайкинс. Этот ее второй муж – так и не знаю, вышла она за него замуж или нет, – был тощим официантом с нервным кашлем и редеющими, смазанными маргарином волосами. Перед уходом из дома он всегда совал руку в банку с маргарином или маслом, обычно с маргарином, и мазал им волосы. Чаевые он хранил в большой жестяной банке, стоящей на кухонном шкафу, и я воровал их оттуда. Кажется, мама всегда брала вину на себя. Ну хотя бы эту малость она могла для меня сделать (79).
Я часто мечтал о женщине, которая была бы красивой, умной, темноволосой, с высокими скулами. Она должна была быть независимой художницей (а lа Джульетт Греко), моей родственной душой, человек, с которым я уже знаком, но с которым нам пришлось расстаться. Конечно, как у любого подростка, главное место в моих сексуальных фантазиях занимала Анита Экберг и ей подобные крепкие нордические богини. Так было, пока в конце пятидесятых я не влюбился в Брижит Бардо. (Всех своих темноволосых подружек я настойчиво уговаривал стать похожими на Брижит. Когда я впервые женился, моя жена, волосы которой были золотисто-каштановыми, преобразилась в длинноволосую блондинку с обязательной челкой. Несколько лет спустя я познакомился с настоящей Брижит. Я сидел тогда на кислоте, а она уже лечилась.) (78)
Я вычитал у одного парня, что сексуальные фантазии и желания – это и есть то, что составляло его жизнь. Когда ему было двадцать, а потом тридцать лет, он думал, что с возрастом это пройдет. Так же он думал, когда ему минуло сорок, но ошибся. То же самое продолжалось и в шестьдесят, и в семьдесят лет, и даже когда он уже был импотентом. И я подумал: "Дьявол!" – потому что тоже надеялся, что мои фантазии иссякнут, но теперь понял, что они будут продолжаться вечно. "Вечно" – слишком сильное слово. Скажем лучше, что фантазии не прекратятся, пока дух не покинет тело. Будем надеяться. Возможно, вся задача в том, чтобы обуздать их до ухода из жизни, иначе пришлось бы снова возвращаться сюда (а кому охота возвращаться, только чтобы кончать?) (79).
Помню, когда я был подростком, однажды вечером, а точнее, днем я трахался с подружкой на могильной плите, а мою задницу облепила тля. Это был хороший урок кармы и/или садоводства. Барбара, где ты теперь? Наверное, ты стала толстой и уродливой и у тебя пятнадцать детишек? После встречи со мной ты была ко всему готова. Печально то, что прошлое проходит. Хотел бы я знать, кто сейчас целует ее (78).
В нашем воображении Америка рисовалась страной молодежи. В Америке были тинейджеры, а в остальных странах – просто люди (66).
Все мы знали Америку, все до единого. В детстве мы смотрели каждый американский фильм – диснеевские картины, фильмы с Дорис Дэй, Роком Хадсоном, Джеймсом Дином или Мэрилин. Все лучшее было американским: кока-кола, кетчуп "Хайнц", а я-то, пока не побывал в Америке, считал, что кетчуп "Хайнц" делают в Англии.
Пока не появился рок-н-ролл, почти вся музыка тоже была американской. Мы знали и наших артистов, но все известные звезды были из Америки. Американцы приезжали выступать в лондонский "Палладиум". Без участия американских актеров не снималась ни одна английская картина, даже фильмы класса Б, потому что иначе никто не стал бы их смотреть. А если найти американцев не удавалось, приглашали сниматься канадцев (75).
Английских пластинок не существовало вообще. По-моему, первой английской пластинкой стала "Move It" Клиффа Ричарда, а до нее не было ничего (73).
Ливерпуль – город космополитов. Возвращаясь домой, моряки привозили блюзовые пластинки из Америки (70). Мы слушали в Ливерпуле старые записи в стиле фанк-блюз, о которых понятия не имели другие жители Великобритании, а заодно всей Европы, за исключением жителей портовых городов.
Больше всего английских последователей кантри-энд-вестерна живет в Лондоне и Ливерпуле. Музыку в стиле кантри-энд-вестерн я услышал в Ливерпуле раньше, чем рок-н-ролл. Тамошние люди, как и ирландцы в Ирландии, очень серьезно относятся к своей музыке. Еще до появления рок-н-ролла в Ливерпуле были известные клубы фолка, блюза и кантри-энд-вестерна (70).
В детстве мы все были настроены против народных песен, потому что они пользовались популярностью у среднего класса. Все студенты колледжа в длинных шарфах и с кружкой пива в руках распевали жеманными голосами "Я работал в шахте в Ньюкасле" и тому подобную ерунду. Настоящие исполнители в стиле фолк были все наперечет, хотя мне немного нравился Доминик Бехан, а в Ливерпуле можно было услышать совсем неплохие мелодии. Иногда по радио или телевидению передавали очень старые записи песен настоящих ирландских рабочих, и впечатление было потрясающим. Но в основном фолк пели люди с приторно-сладкими голосами, пытаясь оживить то, что уже давно отжило и умерло. Все это выглядело скучновато, как балет: музыку меньшинства исполняло такое же меньшинство. Сегодня музыка в стиле фолк – это рок-н-ролл (71).
Фолк-исполнитель – это не певец с акустической гитарой, поющий о шахтах и железных дорогах. Ничего подобного мы больше не поем. Теперь мы поем о карме, мире, о чем угодно (70).
В нашей семье радио слушали редко, поэтому к музыке в стиле поп я привык позднее, в отличие от Пола и Джорджа, которые выросли на поп-музыке, – ее постоянно транслировали по радио. А я слушал ее только у кого-то в гостях (71).








