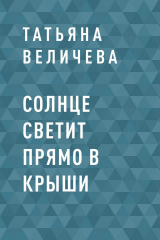
Текст книги "Солнце светит прямо в крыши"
Автор книги: Татьяна Величева
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Когда чай был выпит, а магазины открылись, мы отправились в «Рок-палас». Кирилл долго разглядывал витрину, но так ничего и не купил.
–Мечтаю о кольце, – пояснил он. – Только не найду подходящее.
–Хочешь, я тебе подарю? В виде льва? – спросила я. У меня дома в ящике стола лежало крупное кольцо из нержавейки – я уже и забыла, откуда оно там взялось. Я думала сама носить это кольцо, но оно спадало.
–Покажу, когда вернёмся, – пообещала я.
Мы вышли на Невский, прямой, как стрела, проспект. И вдруг, неожиданно, от свежести ли ясного дня, от невиданного простора или от свободы, юности и ожидания чуда – меня охватила внезапная и всепоглощающая, какая-то новая, немосковская, радость; хотелось не просто идти – бежать, лететь по проспекту, запоминая каждое мгновение этого дня. Я улыбалась и была уже не та, что ехала сюда, а другая, новая, у которой не было ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, и жизнь моя начиналась каждый миг с каждым шагом по Петербургу.
–А правда, что одна половина Невского всегда на солнце, а другая – всегда в тени?
–Пойдём по солнцу.
И мы пошли. Сколько всего было вокруг! Скульптуры, лепнина, барельефы, переходы, подземка, фонтаны, кафе, скверы, парки, и каналы, каналы, каналы! Глядите, глаза, идите, ноги! Память, не забудь ничего, забери с собой и этот прозрачный воздух, и красочные мосты, и катера у набережных, и сиянье дворцов, и парадные флаги, и оживлённых прохожих, и лёгкую, едва заметную улыбку немного усталых глаз – всё, всё забери, всё сохрани, ведь однажды ты сможешь помочь и мне, и ему – и другим!
Мы шли и шли по прямому, как стрела, проспекту, пока не свернули в объятия Казанского собора. Там, в тени колонн, к нам привязалась бойкая продавщица экскурсий. Обзорная поездка? Петергоф? Кронштадт? Ораниенбаум? Прогулка на катере? Что-то другое?
–Петергоф?
–Давай напоследок, перед отъездом…
–А денег хватит?
–Будем голодать. Мы же теперь студенты!
Мы не замечали ни времени, ни расстояния: шагали, шагали, шагали, и могли так пройти всю планету, не чувствуя усталости. Мне стало легко и свободно с Кириллом, да и он заметно оживился, хотя оставался немногословен, так что иногда казалось, будто я одна, а рядом отражение, которое говорит, если говорю я, и молчит, когда я молчу. Или это я была его отражением и сама повторяла за ним?
А первый питерский день мчал нас вперёд. Забывая поесть, мы бросали монеты в фонтаны, бродили по набережным и смотрели, как небо склонялось к Неве и над синей водой распускалась роза ветров. А потом мы увидели крейсер.
–Какой он тревожный, – сказала я, разглядывая стальную громаду.
–Почему? – удивился Кирилл.
–Как предгрозовые облака. Такого же цвета.
Мы поднялись на палубу. Кирилл остановился у спуска в корабельное помещение:
–Пойдём?
–Лучше не надо… Похоже на спуск в могилу…
–У тебя клаустрофобия?
–Нет, с чего… Ах да, забыла, ты же у нас специалист по диагнозам!
–Не забудь, я не поступил, куда хотел…
Мы возвратились к набережной.
–Как тебе Питер? – спросила я.
–Уже не Москва. Внешне как будто похоже, а потом видишь разницу.
Неужели он научился читать мои мысли?
–Здесь всё по-другому, – продолжал Кирилл. –Москва древняя…
–…будто старушка, – подхватила я.
–…а Питер молодой…
–…и гордый, как воин. Заметил, сколько здесь львов? Как будто они что-то охраняют. Никогда не спят…
–…и глядят на солнце, не мигая.
Мы присели на лавочку. Только сейчас я поняла, насколько устала. У меня болели ноги: видимо, кеды, которые я взяла в поездку, не подходили для долгих прогулок. Эти кеды мне очень нравились, я носила их с разными шнурками: на левой ноге оранжевый, а на правой – фиолетовый. «Зачем так? – спрашивали родители. – Выглядит нелепо…» Но я всё равно не меняла шнурки.
–Пойдём на разводку мостов? Или в другой раз? – спросил Кирилл, поглядывая на часы.
–Лучше сегодня.
Мы скоротали вечер в одном из кафе. Кирилл вдруг начал рассказывать о Николае Первом, о восстании декабристов, об Александре Втором, о революциях; он рассказывал так, словно видел всё своими глазами, и за окном исчезали машины, рекламные плакаты, асфальт; Петербург заполонили всадники и люди в старинной одежде, над площадью разносились выстрелы, гремели взрывы, стучали колёса экипажей. Я слушала затаив дыхание. Мне с трудом давалась история: учебники с их бездушным языком не трогали меня, и я всегда путала имена и даты; теперь, под неспешный рассказ Кирилла, картины прошлого словно живые проносились перед нами – близкие, понятные, правдивые и чарующие, как миф. Может, поэтому я и захотела учиться на мифологическом факультете?
Мы вышли из кафе, когда время перешагнуло за полночь. Синева наводнила город: светлая вдалеке, она казалась особенно густой над золотыми огнями домов. Дворцовая площадь светилась вспышками фотокамер, переливалась велосипедными трелями, махала флагами, разнося по округе смех, говор и гитарный бой, и ощущение праздника жизни, что-то новое, или, вернее, давно забытое старое нахлынуло настолько, что кружилась голова. А может, это усталость давала о себе знать, усталость от радости и впечатлений, от того, что пульс города совпадал с моим, что у меня не было ни прошлого, ни будущего, а только настоящее? Мы уселись прямо на брусчатку и подпевали музыканту в толпе таких же бездомных, как мы. Площадь кружила каруселью вокруг колонны, и стоило только закрыть глаза, чтобы улететь в неведомую даль, где полыхали зарницы под недремлющим оком Александрийского ангела.
Кирилл напомнил о мостах. Карусель нас вынесла к набережной, где плотной стеной стояли зрители. Мы с трудом отыскали свободное место у парапета и принялись ждать, стараясь не замёрзнуть. В небе причудливыми узорами чернели редкие облака; синева растаяла, и даль окрасилась розовой, почти прозрачной дымкой. На реке выстроилась длинная вереница катеров. Молчаливые и спокойные, застыли на берегу бронзовые львы. И природа, и город, и люди – всё стихло, всё замерло в безмолвном ожидании, и лишь в отдалении, подобно биению сердца, мерно стучали там-тамы. В тишине, сочетая небо и землю, вставала громада моста.
Кто-то захлопал, и люди начали расходиться.
–Не помню, куда идти… – сказала я, пошатываясь от усталости. Кирилл взял меня за руку и повёл по Невскому проспекту; замелькали шаги, левый оранжевый, правый фиолетовый. Потом мы очутились в глухом дворике и нажимали на все звонки подряд, пока нам не отворила хозяйка узкого коридора, где тусклая лампа едва освещала двери по сторонам. Кирилл исчез в одной из комнат, а мы шли дальше, и наконец хозяйка открыла последнюю дверь. Найдя в темноте диван, я мгновенно уснула.
***
Утром меня разбудило слабое жужжание. Я открыла глаза и с удивлением увидела незнакомый потолок. Мелькнуло – Питер! Интересно, чем питерский потолок отличается от московского? Наверное, узорами трещин.
Приподнявшись на диване, я огляделась. Сквозь ветхую рогожку, наброшенную на окна, пробивались солнце. Оно освещало широкий, заваленный старыми книгами подоконник и засохшее алоэ в деревянном горшке. В трухе листьев вяло копошилась муха. На батарее пылились тряпки; снизу, вдоль стен, стояли пустые ящики, банки и вёдра. Отовсюду – с истрёпанного покрывала, с отходивших обоев, с грязного половичка у шкафа – кричала бедность.
Когда я заправляла диван, жужжание повторилось – точно, пришло сообщение, я и забыла! «Эл, ты куда пропала? Почему на сайт не заходишь?»
Заметил! И пишет! Мне пишет! Как хорошо, что я не в Москве, как хорошо, что уехала! Иначе б не написал… А может, и написал бы? Он ведь первый подошёл тогда, рядом с учебной частью! И на встрече всё звал играть… А может, потому только, что мы с одного факультета? Но ведь написал же он мне, это ведь я «пропала»! Кирилл тоже «пропал», а пишет он мне! А вдруг он узнает, что мы «пропали» вместе? Интересно, Кирилл кому-нибудь сказал? Вряд ли, такой ничего не скажет… Как всё это странно… Поверит кто, что мы просто так уехали? Но ведь это правда. Взяли и уехали. Просто так.
Я без конца перечитывала сообщение Игоря. Что ответить? Как-нибудь так, чтобы он опять написал, чтобы захотел ответить… Куда я «пропала»? «Я вернулась в мой город, знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз» – вот куда! Мы только вчера уехали, а ты уже пишешь, ты заметил!.. Подольше б не возвращаться, чтобы ты писал… Вдруг, когда я вернусь, ты перестанешь писать? А так – будешь, ещё несколько дней… Кстати, о времени… Половина девятого. Тихо как; наверное, другие жильцы спят или уже разошлись. Можно пробраться на кухню… и приготовить чай…
Я впервые попала в питерскую квартиру и теперь, сидя на кухне, с интересом осматривалась. Среди обшарпанных стен и ржавчины рукомойников встретились прошлое и будущее: на старинной печи стоял пластмассовый чайник, осколки глазурованных изразцов были наполовину закрыты ярким плакатом, под потолком угадывалась замазанная краской лепнина, стиральная машина отражалась в высоком, прислонённом к стене резном зеркале – благородное достоинство нищеты и небрежность роскоши прятались в этой загадочной петербургской квартире.
На кухне появился Кирилл. Мы наспех выпили чай и вышли в длинный коридор с его тумбами и антресолями, с его коробками и пакетами, где всё пространство казалось сгорбленным.
–Детки, купите мне арбуз, – вдруг зашевелилась чья-то тень. Со стула поднялась хозяйка, усталая, понурая – мы не сразу увидели её среди хлама. Она с трудом держалась за стену и протягивала нам деньги. Кирилл от денег отказался – ему тоже стало жалко хозяйку, такую сиротливую в этой большой и нелепой квартире. Мы поспешили на улицу. За углом оказались торговые ряды. Пока Кирилл бегал с арбузом обратно, я проверила телефон. Пока ничего. Пока?
–Давай отдам половину за арбуз, – предложила я, когда Кирилл вернулся.
–Не надо, – он помотал головой.
–Надо. Пусть это будет от нас, ладно? Поровну.
–Питер – поровну. А это – не надо.
–Наверное, грустно стоять на вокзале и искать жильцов… И возвращаться в квартиру, где так одиноко.
–По-моему, кроме нас у неё сейчас никого, – сказал Кирилл.
–Да, в моей комнате было пусто.
Мы пошли по Невскому проспекту. Позолота домов ослепительно сверкала на солнце.
–Давай сочинять стихи? На память о поездке?
–Давай. Придумай рифму к слову «крыши».
–Мыши.
–Где ты видишь мышей?
–Тогда «пишет».
–Кто пишет? И что пишет?
–Можно придумать. Мы пишем, например.
–А может, кто-то пишет? Про нас?
Мы подошли к Эрмитажу и встали в очередь. Я тихонько заглянула в телефон. Ответил! Но что ответил – не видно, надо заслонить экран, слишком светло на улице… «Я шатаюсь в толкучке столичной над веселой летней водой» – и снова тёмный экран, а на моём лице расплылась непрошенная, счастливая улыбка: надо её объяснить или спрятать.
–У тебя уже есть студенческий? – я быстро отвернулась от Кирилла и указала на объявление о бесплатном входе для студентов.
–Нет пока, – сказал Кирилл. – А у тебя?
–Есть. Но можем притвориться школьниками. Для них тоже бесплатно, – и когда подошла наша очередь, я сказала кассиру:
–Два школьных, пожалуйста!
–И в каком же вы классе, молодые люди?
–В двенадцатом!
Теперь можно не отворачиваться, можно улыбаться, можно щуриться от ярких лучей! Только что же ему ответить?
Мы вошли в музей и стали бродить по зеркальным залам.
–Здесь уместнее королевские наряды, а не эти обноски, – сказала я: разноцветные шнурки и потрескавшиеся мыски кед казались чужестранцами в богатой обстановке дворца.
–Да мы и так будто король с королевой: делаем, что хотим.
В музее мы пробыли долго. Мы радовались, встречая знакомые по учебникам экспонаты, вспоминали про них что-то интересное, но потом каждый новый зал стал напоминать предыдущий, и мы бы точно заблудились, если бы Кирилл не предложил сбежать.
–В Петропавловскую?
И снова воздух, вода, солнце – простор, где дышится так легко и свободно! Я бы могла провести у набережной Невы всю оставшуюся жизнь, только бы не возвращаться в унылую квартиру, только бы видеть эту лучезарную даль, только бы всегда упиваться той радостью, что изливалась на меня с потоками солнечного света, – той радостью, которой я делилась по телефону. «В душистой тени между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип» – набираю не глядя, одной рукой в кармане, без ошибок – ответишь?
У Петропавловской крепости взлетел вертолёт. Мы немного посмотрели, как он кружил над бастионами, а потом прошли за ворота. Пусто и тихо было на площади, и даже у палаток с монетами не было ни души. В одном из дворов, чёрный и угрюмый, с топором в руке стоял палач.
–Настоящий?
–Нет.
Палач стоял на деревянном эшафоте. Издали мне показалось, что кто-то расписал эшафот иероглифами, но нет, это солнечные блики играли на пыльной доске. Пустые глазницы палача подтолкнули нас к выходу: ступайте прочь, здесь слишком мрачно, слишком пустынно, это по мне, а вы отправляйтесь туда, где зелень, где люди, где солнце!
–Устала? – спросил Кирилл.
–Да. Или нет. Не знаю.
–Ещё пойдём куда-нибудь?
–Может, на кладбище? К Подгорному?
–Ты слушаешь Подгорного? – удивился Кирилл.
–Нет… Но этот палач мне почему-то напомнил Подгорного… Такой же тёмный и одинокий…
Ехать до кладбища оказалось недалеко. От метро туда вели указатели, но мы, не обращая на них внимания, свернули на пустыри, чтобы срезать путь. Мимо железнодорожных путей, мимо свалок, мимо заброшенных гаражей и сараев – к небольшой дыре в заборе, за которой виднелись кресты.
–И как тут найдёшь могилу Подгорного? – спросила я, когда мы попали на центральную улицу кладбища.
–Встретим кого-нибудь, – предположил Кирилл. Так и произошло: мы увидели ребят в косухах и узнали у них дорогу. Но и без того памятник Подгорного бросался в глаза – столько цветов, фотографий и писем лежало у его подножия. Мы встали, неловко переглянувшись. Нужно молчать? Или что-то сказать? Но что?
Щебетали птицы. Шелестели на зубьях ограды рисунки поклонников. Пахло ромашкой.
–Совсем молодой… – кивнул Кирилл на Подгорного.
–Почему они так рано уходят, музыканты?
–Не знаю. Может, оттого, что там, в их музыке, всё по-другому… А это порой мучительно.
–Почему?
–Потому что жизнь – она здесь, а не там. И вернуться бывает трудно.
–Я, кажется понимаю… Иногда от какой-нибудь песни я будто сама не своя…
–Такую песню надо выключить. Просто выключить.
–А если не можешь? Ведь в песне часть твоей жизни. Песня – то же воспоминание. И если оно дорого, как забыть?
–Не забыть. Отложить. Пройдёт время… И когда-нибудь это будет просто песня.
–У тебя умирал кто-нибудь? – внезапно спросила я и не увидела, а скорее почувствовала, как Кирилл покачал головой.
–У меня тоже нет, – сказала я. – Точнее, умер, когда я была совсем маленькой, – дед. Приехали родственники, и я подумала, что наступил праздник… Мы всегда собирались по праздникам… Так и запомнилось: смерть – это праздник…
Ночью я никак не могла уснуть. В комнате что-то поскрипывало, и было душно. Я вышла на кухню. Кирилл сидел за столом и пил чай. Тусклая лампа почти не давала света, и в углах прятались тени; изломы старой штукатурки напоминали кресты на кладбище. Из недр квартиры доносился кашель хозяйки; слышался запах лекарств.
Кирилл подвинул мне чашку и налил кипятку.
–Здесь пахнет одной из песен «Анчара», – сказала я. – Эта песня пахнет лакрицей. Она такая же чёрная.
–Как это? – спросил Кирилл.
–У многих песен есть запах и цвет. У «Анчара», например, всё чёрное или бордовое, всё какое-то болезненное, мне даже иногда не по себе становится…
–Ох уж этот «Анчар». Не зря я его бросил слушать.
–Как бросил? Что же ты делаешь в фан-клубе?
–Помогаю с сайтом, – хмыкнул Кирилл. – Мы с Админом одноклассники.
Во дворе хлопнула дверь, и эхо закружило по колодцу. Кирилл тихонько постукивал пальцами по столу, а я, размешивая чаинки, вспоминала снежные вихри над тёмной равниной, лучи прожектора в багровом небе, сияние средневековых башен и низкое рычание невидимых волков – одну из последних песен «Анчара».
–Я имена тоже чувствую, – продолжила я, зная, что Кирилл меня поймёт. – Есть имена гордые. Есть тихие. Есть мирные, а есть беспокойные. Есть крепкие, есть мягкие. Есть лёгкие, есть тяжёлые, есть тёмные, есть светлые. И человек, сам того не зная, ведёт себя по имени.
–В смысле?
–Если его называть легко, то он лёгкий. А если твёрдо, то он твёрдый. Надо очень чутко с именами обращаться. Их иногда видно, имена. Вот, например, Алиса. Сизая дымка, шелест ветра в тёмном саду. Только на форуме я Эл… Это что-то совсем другое, что-то… незавершённое. Одна из букв. Тринадцатая в алфавите. Двенадцатая, если в латинском… Просто буква. Буква, с которой начинается слово. Только какое слово? Не знаю… И я иногда забываю, кто я – Алиса, Эл, – забываю, какая, как будто во мне два разных человека …
–Наверное, поэтому у меня и нет прозвища на сайте, – произнёс Кирилл. – Хочу оставаться самим собой.
–Порой это сложнее всего…
Тень от абажура закрывала лицо Кирилла, и мне казалось, что я разговариваю сама с собой.
–А насчёт образов, – сказал Кирилл. – По-моему, я где-то читал про людей, у которых смешанное восприятие: они слышат картины, видят звуки. Чаще всего они видят разноцветные буквы и цифры.
–Но что это – просто особенность этих людей? Или и вправду есть что-то такое, что можно увидеть, почувствовать? Может, всё не так просто, как кажется? И есть что-то такое помимо нас? Есть или нет? Неужели слова весомы и зримы? Не образно, а по-настоящему? Ведь я вижу их цвет… То есть не вижу, а чувствую… Как бы объяснить… Названия месяцев, скажем, все разные. Они идут по кругу, против часовой стрелки. Круг начинается с сентября. Ты видел круглый календарь?
–Нет.
–А он круглый, как часы. Только всё движется против часовой стрелки. Начинается с сентября – там, где на часах девять; внизу, на шести, декабрь. Весна справа, а лето вверху. Все месяцы разные: один серебристый, другой красный… Есть белый месяц, есть серый, есть жёлтый… Есть лёгкие месяцы, есть тяжёлые. Хуже всего низ круга – будто тупик: кажется, что дальше ничего не будет. Но наступает новый год, и время снова идёт, снова тянется вверх, к лету, и как-то живёшь дальше.
–А ещё что видишь?
–Дни недели, например. Они тоже идут по кругу, тоже против часовой стрелки. И наверху воскресенье.
В комнате я ещё долго лежала без сна, а телефон молчал. Он молчал, когда за окном зажёгся фонарь, и его свет, разбившись о сетку занавесок, рассыпался по комнате. Он молчал, когда посветлел квадрат неба над голым петербургским двором. Он молчал, когда я, засыпая, увидела имя, седую луну над древней землёй… Игорь и Капер, Капер и Игорь… это всё древнее… это всё было…
***
«Сквозь пыльные, жёлтые клубы бегу, распустивши свой зонт» – он написал мне! Да здравствует телефон!
Доброе утро, Кирилл! Самое доброе утро на свете! И вам доброго утра, как вы себя чувствуете? Может, что принести? Арбуз или дыню, кусочек набережной или чашку Невы? Точно не надо? Что вы так смотрите на меня? А, ведь вы не знаете, он мне написал! Он – мне – написал! И надо придумать ответ!
–Ребятки, вы сегодня опять поздно вернётесь? – устало спросила хозяйка.
Поздно, поздно, мы будем искать солнечный ветер!
–Вероятно, – ответил Кирилл.
–Тогда заприте дверь на засов, когда придёте.
Нет, мы распахнём двери, и пусть этот хлам летит вон! Вам станет лучше, вы обменяете мрак на яркий и солнечный воздух! Не хотите? Тогда летим мы! По коридору – на лестницу!
–Алис, – Кирилл внезапно остановился. – Может, попробуем выбраться на крышу? В конце концов, мы в Питере…
Точно, на крышу, быстрее наверх, мы обнимем весь город! Не удивляйся, Кирилл, мне сегодня весело! Почему? Да потому что Питер!
Вот и двери на последней площадке, на одной замок, а другая не заперта: это выход на чердак. Нам сегодня везёт! И будет везти весь день!
Мы шагнули в темноту и прошли по деревянному настилу к яркому пятну окна. Под ним была лесенка. Мы поднялись по ней… протиснулись в окно… выпрямились во весь рост… и обомлели. Крыши! Бесконечные крыши! Они простирались до самого горизонта; серебристые, в брызгах ржавчины, вздымались волны крыш, и корабельными мачтами темнели над ними антенны, трубы и купола. Как в зеркало, смотрелось в крыши солнце, и всё вокруг сияло, а в самом сердце, в ослепительном сгустке света стояли мы.
А потом мы уселись на гребне, зачарованно глядя вдаль. Сколько мы так просидели? Здесь минута могла превратиться в часы, а часы пролетали в минуту, и только неспешный ход солнца напоминал нам о том, что всё так же крутится календарь и всё так же бежит равнодушное время.
–Как хорошо тут должно быть на закате!..
–А я больше люблю рассвет…
–…всё становится призрачным, сказочным!..
–…встаёт солнце, и прячутся тени…
–…всё темнеет, обретает глубину!..
–…всё освещается, проясняется…
–…и ты будто оказываешься в другом мире!..
–…и ты будто возвращаешься к жизни.
Осторожно, шаг за шагом, продавливая листы железа, мы спустились на чердак. В тёмном углу, под деревянными балками, забился голубь. Взметнувшись, он неуклюже вылетел в окно, оставив после себя горстку перьев.
–Смотри, – прошептал Кирилл и подошёл к балкам. Там лежала завёрнутая в полиэтилен книга. Кирилл распотрошил обёртку и наугад раскрыл книгу:
–Какой-то артефакт.
В тусклом свете подъезда мы смогли разглядеть находку. Это был большого формата блокнот с плотной, под кожу, обложкой. Несколько страниц были исписаны от руки; я бегло просмотрела их, раздумывая, почему блокнот хранился на чердаке.
–Может, это сектантский кодекс? – пошутил Кирилл. – Ладно, пойдём.
–А с этим что делать?
–Возьмём пока.
Мы вышли из переулка и зашагали к набережной Невы.
–Занятная штуковина, – задумчиво сказала я, на ходу разглядывая обложку книги. – Мне всегда нравились – не знаю, как бы это назвать – материальные свидетельства минувших дней… Посуда, одежда, черновики, письма… Особенно письма. Жил человек, и вот его не стало, а читаешь его письма, видишь его почерк – и человек оживает вновь.
–Да уж, это не какие-нибудь эсэмэски или электронные сообщения…
–Всё, что останется от нас, виртуально…
–А это, считай, ничего…
Нева весело золотилась крупной рябью, и белые завитки, разбегавшиеся от катеров, наперегонки мчались к гранитным берегам. Лёгкие облака оплетали ярко-синее небо. Мы встали у парапета. С реки дул лёгкий, едва осязаемый ветер; он леденил кончики пальцев и нёс в себе запах солнца. Я замерла, не поверив, а поверив, улыбнулась: это был тот самый ветер, который я искала, ветер, летевший из детства, ветер, суливший, что всё будет хорошо.
–Хорошо как – ветер, – сказал вдруг Кирилл.
–Что? – я изумлённо взглянула на него: он, уже не первый раз, будто читал мои мысли.
–Хорошо, говорю, ветер…
–Да…
Мы подошли к музею-квартире Пушкина и свернули в залитый солнцем двор. Экскурсовод, молодой человек, заметно нам обрадовался. Он повел нас по старинным комнатам, щедро осыпая цитатами, фактами, датами. Он, а вовсе не Пушкин, был здесь хозяином: он присваивал себе мебель поэта, его произведения, его жизнь, он делал Пушкина бытовым, предсказуемым, объяснимым, он говорил насмешливо и едко, и Кирилл замкнулся, хмуро поглядывая по сторонам.
–А это послания к Н.Н., сто тринадцатой любви, которая и стала его женой, – вещал юноша, подводя нас к столику с письмами. – Конечно, Алексансергеич слегка преувеличил, ибо в его донжуанском списке гораздо меньше имён. Но факт остаётся фактом, список он создал своей рукой, а сколько имён он утаил, мы можем только гадать.
–Да неужели человек стал бы всерьёз писать такое? – сказал Кирилл.
–А почему бы и нет? – с готовностью отозвался юноша.
–Он просто играл. Играл по правилам своего окружения и даже не скрывал этого. Здесь же сплошная насмешка – и над другими, и над собой.
–В насмешке много самодовольства, а значит, и правды, – сказал юноша.
Кирилл промолчал. Заговорил он только тогда, когда мы вышли из музея.
–Странно, как можно воспринимать такое всерьёз, – пробормотал Кирилл, глядя себе под ноги. – Воспринимать всерьёз шутку, игру и насмешку… когда за ними-то и прячется главное. Ведь нам куда проще назвать сто тринадцать ничего не значащих имён… чем одно сокровенное имя.
Слева у каменной глыбы вскинулся на дыбы темногривый конь медного всадника.
–Ведь что же такое любовь? То, что останется, когда всё остальное уйдёт.
Мы свернули с набережной и шли куда глаза глядят, не разбирая дороги, по тихим улицам, по гулким дворикам, мимо открытых кафе. Когда вернулись на Невский, начало смеркаться. У выхода из метро к нам подошёл Пётр Первый:
–Молодые люди, сфотографироваться не желаете?
–Давай? – я повернулась к Кириллу. – На память.
–Как отказать царю! – усмехнулся Кирилл.
Мы сфотографировались с Петром и тут же получили распечатанное фото.
–Бери себе.
–А ты?
–Я потом у тебя отсканирую. На память.
Мы пошли дальше. Развязался шнурок – фиолетовый – подожди, надо завязать.
– «…страстной проповеди добра…» Алис, это же дом Раскольникова!
Кирилл разглядывал мемориальную табличку, над которой высилась фигура Достоевского у подножия узкой лестницы.
–Тринадцать ступенек? – проговорила я, вставая. – Мне раньше казалось, что у него все персонажи ненормальные, – я кивнула на одинокую фигуру писателя. – А теперь думаю, что они более нормальные, чем мы.
–Почему?
–Потому что они ищут. Им недостаточно того, что на поверхности, понимаешь? Они жаждут… только чего? Что это за потребность души? Что такого особенного в его произведениях? Ведь не полифония же! Не одна только полифония!
–То, на чём стоит вся русская литература.
–Точно! Да он и есть русская литература, самая русская! Есть в его книгах особенность такая, русская, по-другому не скажешь, – сомнение, мучение, вера, я не знаю, как это назвать всё вместе, – жажда… Можем ли мы это понять так, как понимали раньше? Так, как понимали, как хотели понять… Что было у него, чего не хватает нам? Что знал или чего искал он, чего не знаем и не ищем мы? Что отняли у нас? Почему мы не ищем того же? Почему нам хватает того, что на поверхности? Почему мы не страдаем, не мучимся так, как страдали и мучились они? Не внешне, а глубоко, внутренне, искренне? Ведь не вымысел это? Не только вымысел? Ведь правда – та жажда, которая была у него?
–Правда, – серьёзно сказал Кирилл.
–Но что это за правда – не знаю… Читаю – и чувствую, что правда, что всё так, всё правильно. Но когда пытаюсь это объяснить, себе или ещё кому-то, – правда ускользает. Вот когда пишу сочинение: вроде бы всё верно, всё хорошо, умно, толково, красиво – а правды нет, одно враньё. А где правда, где она? Разве она исчезает? Разве она умирает? Нет, конечно, только куда она девается? Я чувствую это, но не знаю, как объяснить. И не хочу ничего объяснять, не нужно это, я просто чувствую, бессознательно чувствую. А у него, у его героев, есть правда. Не всё правда, много всего помимо правды, но и правда есть, та самая правда! Они, его герои, барахтаются в грязи, но в этой грязи есть всё-таки крупицы золота! И одна такая найденная крупица стоит всех трудов, всех сил, всего времени, да что там – жизни всей стоит одна такая крупица! «…страстной проповеди добра для всего человечества» – вот оно: каким бы тёмным, грязным, нищим ни был мир его произведений, над ним неизменно сияет луч света. Всего только луч, но сияет! Ведь не может быть одной только тьмы кромешной, одной только грязи! Не может! Не верю я, что одна только тьма вокруг, не хочу в это верить. И мне нужна такая крупица. Разве нам всем она не нужна? Она нам больше нужна, потому что и тьмы у нас больше! Нужна, только почему мы не ищем? Почему мы слишком многое пытаемся понять умом, а не сердцем? Ведь не умерло в нас сердце, ведь оно живо, оно тоже хочет правды! А мы не слышим его, мы… уже не дети! Мы уже не такие мудрые!
–Мне вообще кажется, что человеку с рождения дано всё, – сказал Кирилл. – Но с годами он начинает это растрачивать. Блажен, кто оставит себе хотя бы частичку того дара, которым был наделён с детства.
Мы пошли дальше. Я боялась признаться Кириллу, да и самой себе, что устала. Устала, бесконечно устала от своих собственных слов, от впечатлений, от той радости, что внезапно подхватывала меня, кружила в своих объятиях, а потом так же внезапно оставляла. Мне хотелось побыть одной, но я шла с Кириллом, и неведомая грусть мало-помалу охватывала меня. Так мы брели, бездомные дети, ищущие крупицы золота в густых сумерках огромного мира.
***
Утром мы попрощались с хозяйкой и, подхватив рюкзаки, направились к выходу из хмурой квартиры. Кирилл, пропустив меня, замешкался в дверях.
–Вот он, настоящий Питер, – сказал он, оглядываясь. – Нищий и гордый.
У Казанского собора мы сели в автобус на Петергоф. Я смотрела в окно, когда пришло сообщение. «Не знаю, где ты и где я. Те же песни и те же заботы». Ты пишешь… И я скоро вернусь. Ты рад?
После тишины и полумрака автобуса Большой каскад с его толпами казался слишком ярким и громким. Мы свернули на боковую аллею, подальше от людей, по кленовой тропинке – к гавани. Мне не хотелось разговаривать, Кирилл тоже молчал. Тоскливо. И как тянется день!
Мы бесцельно перешагивали с камня на камень, а потом уселись под причалом и долго смотрели на розовато-сизые облака, застывшие у воды, на бесшумные метеоры, на чаек, то камнем падающих вниз, то свободно взмывающих вверх. Над нами прощально веяли флаги; дул тёплый береговой ветер. Скоро поедем на вокзал, где ждёт поезд; он повезёт нас домой, оставив на память непонятную книгу и смятую фотографию. А завтра мы будем в Москве.
Автобус мягко катил по асфальту. Я смотрела в окно. Зажужжал телефон. Игорь? «Я люблю тебя». Это написал Кирилл.
***
Солнце светит прямо в крыши,
Отражаясь в позолоте,
И лучом на эшафоте
Иероглифами пишет.
Пишет, как пришли сюда мы
Королём и королевой
Мерить город правой, левой –
Разноцветными шагами –
И над метрополитеном
Шум истории услышать.
Солнце светит прямо в крыши,
Ало удлиняя тени.
***
Я опаздывала. Родители долго и торжественно провожали меня на учёбу, давая последние наставления. Папа просил не разговаривать с незнакомыми. Мама всё сокрушалась, что я опять надела кеды с разноцветными шнурками – и где только мои туфли? Так что двери уже закрывались, когда я влетела в электричку под свисток машиниста. А на вокзале была такая давка, что хочешь не хочешь, а стой вместе со всеми у спуска в метро.
К своему корпусу я бежала со всех ног. На крыльце меня ждала верная Ленка:
–Я уж подумала, ты вообще не придёшь!
Мимо раздевалки – к охране. Махнули билетами, припустили по коридору. Вот и большая поточная аудитория. Пригнувшись, – как скрипят ступени! – забрались на последний ряд. Сели. Достали листочки и ручки. Перевели дух. Подняли головы, огляделись.






