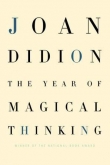Текст книги "Поворот на Салем (СИ)"
Автор книги: Nataly_
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
В первый раз она позвонила после обеда.
Дэвид вбивал данные в таблицу для ноябрьского отчета: занятие, требующее сосредоточенности. Услышав треньканье и бросив взгляд на экран мобильника, поднял брови, возвел глаза к потолку и потряс головой – словом, проделал все, что полагается, когда тебя отрывают от увлекательного рабочего процесса.
– Матушка? – вполголоса поинтересовалась его соседка Сьюзен. Милая привычка Донны-Лу Бентон звонить сыну и изливать ему душу в рабочее время ни для кого здесь не была секретом.
Дэвид кивнул.
– Выручишь меня, ладно? – и с видом приговоренного к смерти поднес к уху телефон.
Не больше трех минут, пообещал он себе. Ровно три минуты он будет выслушивать жалобы на погоду, соседей, артрит, давление, скуку, тупость телеведущих, на пустой дом, слишком большой и холодный для бедной одинокой женщины… и, разумеется, на то, что сын совсем ее забыл. А потом подаст сигнал Сьюзен – и с облегчением вернется к своему отчету.
Но разговор вышел не таким, как он ожидал.
– Дэ-эви! – протяжный южный выговор – не меняется, хоть она и прожила в Мэне уже больше сорока лет. И старческое дребезжание в голосе: с последнего их разговора оно, кажется, стало сильнее. – Дэ-эви, это ты?
– Конечно, я, мама. Кто же еще?
Пауза – секунда или две.
– И у тебя все в порядке?
Странный вопрос. Когда она в последний раз интересовалась делами сына? Нет, лучше спросить: когда Донна-Лу вообще интересовалась кем-то или чем-то, кроме себя?
– Да, все хорошо. У Меган тоже все отлично, – добавил он не без яда; с невесткой его мать была на ножах. – А у тебя?
– Как тебе сказать… – Снова молчание. И вдруг: – Дэви, я хочу, чтобы ты приехал!
– К-куда? – глупо спросил он.
– Сюда, в Салем. Ко мне.
Дэвид отнял трубку от уха и уставился на нее так, словно мобильник ожил у него в руке.
– Мама… что случилось? Ты заболела?
– Нет-нет… Не знаю. Может быть, ничего. Надеюсь, что ничего.
– Тогда в чем дело?
Сьюзен вопросительно подняла брови: мол, не пора ли ей вступать в игру? – но Дэвид покачал головой.
– У нас здесь что-то странное творится, – донеслось до него из трубки. – Не знаю, что и думать.
– Что «странное»?
– Долго объяснять. Да и не объяснишь толком. Может, все нормально, а мне просто чудится. Только у меня сердце не на месте. Приезжай, Дэви… посмотри сам. Пожалуйста.
Когда мать в последний раз говорила ему «пожалуйста»?
– Ладно, – проговорил он, по-прежнему ничего не понимая, – договорились, на выходных съезжу к тебе.
– На выходных?!
Ну конечно! Вдовствующая королева пожелала увидеть сына – значит, сын должен все бросить и помчаться к ней!
– Ты же знаешь, мама, я работаю, – сухо ответил Дэвид. – И сейчас у нас отчетный период.
– Боже мой! Неужели не можешь отпроситься на один день? – в голосе ее послышались мяукающие слезливые нотки. Следующим номером начнет душераздирающе всхлипывать в трубку. – Ну что ты за человек, Дэ-эви! Вспомни, часто ли я о чем-нибудь тебя прошу? У тебя своя жизнь, с этим я давно смирилась. Но вот, именно сейчас, когда ты мне очень нужен…
Дэвид покосился на Сьюзен и скорчил мученическую физиономию. Сьюзен встала из-за стола и на цыпочках подошла поближе.
– Мама, я что-нибудь придумаю. Постараюсь вырваться пораньше. Только не накручивай себя, ладно? Все будет хорошо. Хочешь, позвоню миссис Робертсон, попрошу, чтобы зашла к тебе вечерком?
– Нет! – почти выкрикнула она. – Только не Линде! И не… нет, лучше никому ничего не говори. Просто приезжай поскорее. Прошу тебя…
Дэвид отодвинул мобильник от уха и кивнул Сьюзен – а та, наклонившись к нему, рявкнула командирским голосом:
– Бентон, что там с документацией? Мистер Корелли уже три раза о вас спрашивал!
– Все-все, мама, извини! Перезвоню позже! – Дэвид нажал на «отбой» и кивнул сослуживице. – Спасибо.
– И что на этот раз? – поинтересовалась Сьюзен, садясь на свое место.
Он пожал плечами.
– Вдруг ей загорелось меня увидеть. Говорит, что-то там стряслось в Салеме… ерунда какая-то. Я ничего не понял.
– Да ладно, она просто по тебе соскучилась. Съезди к ней на денек, порадуй старушку. Утром туда, вечером обратно.
– Соскучился паук по мухе! – пробормотал Дэвид, снова углубляясь в свой отчет.
Однако странный разговор с матерью не шел у него из головы.
Конечно, Донна-Лу – мастерица манипуляций; но других. Ее профиль – обиды, трагические монологи и надрывные рыдания. Может изобразить сердечный приступ, уже были случаи. Если бы простонала в трубку, что умирает и жаждет сказать сыну последнее «прости» – на такое он бы не повелся. Но беспредметных страхов Дэвид Бентон за матерью до сих пор не замечал.
«Что-то странное у нас творится», «никому ничего не говори»… а что, если это маразм подкрался незаметно? Вроде так он и начинается: вокруг какие-то странности, никому нельзя верить, соседи по ночам пробираются в дом и срезают пуговицы с пальто, потом с тобой начинают разговаривать телевизоры и утюги, а потом… Потом придется нанимать сиделку. Или устраивать мать в соответствующее заведение. Нехилый удар по бюджету. А Меган скоро рожать, и они подыскивают дом в пригороде… черт, как некстати!
Он разыскал в записной книжке Линду Робертсон, соседку. Набрал номер. Длинные гудки. Разумеется: время – белый день, Линда с мужем на работе, дети в школе. А ее мобильного у него, к сожалению, нет. Поискал номер доктора Чемберса, лечащего врача матери – не нашел.
Когда телефон затренькал снова, Дэвид просто отключил звук и бросил мобильник в рюкзак. Черт с ней: соврет на работе, что у него грипп, и поедет в Салем завтра. Только пусть сейчас она его не достает и даст спокойно доделать отчет.
К пяти часам накопилось шесть пропущенных звонков от матери. Чертыхнувшись, Дэвид перезвонил – длинные гудки. По дороге домой, останавливаясь в пробках, он набирал ее номер снова и снова – но теперь она упорно не брала трубку.
Первая мысль была: мстит, решила наказать его за невнимание. Да, это вполне в духе Донны-Лу. Вторая мысль: да нет, ерунда. Когда они разговаривали, она была по-настоящему встревожена. Даже не встревожена – напугана.
А теперь куда-то пропала.
Он снова набрал номер соседки. Выслушал все те же длинные гудки – хотя и миссис Робертсон, и ее семейству пора бы уже быть дома. Несколько минут раздумывал, закусив губу и барабаня пальцами по рулю. А потом – развернул «шевроле» на ближайшем перекрестке и решительно направился к выезду из города, в сторону Тридцать Восьмого шоссе.
– Что за вопрос? – сказала Меган. – Конечно, поезжай! Все-таки пожилой человек, куча болезней, и живет одна… мало ли что.
Озабоченный голос ее звучал чуть театрально. Милая Мегги, добрая и совестливая: терпеть не может свою свекровь – и этого стыдится. Хотя, видит бог, стыдиться тут совершенно нечего.
– Я всего на одну ночь, – сказал он. – Выясню, что там у нее стряслось, и завтра домой.
– Как доедешь, позвони обязательно.
– Уверена? Я в Салеме буду уже часов в одиннадцать.
– Ничего, я дождусь.
И сейчас, выезжая на прямое, как стрела, Тридцать Восьмое шоссе, пересекающее Мэн с востока на запад, Дэвид невольно улыбался при мысли о том, как Меган лежит в постели с книжкой, положив руку на выпуклый живот, и ждет его звонка.
Должно быть, это и есть любовь: когда за девяносто миль от тебя кто-то не заснет, пока не убедится, что ты благополучно добрался до пункта назначения.
Пасмурный день стремительно превращался в хмурый вечер: большую часть пути Дэвиду придется проделать в темноте. По обе стороны дороги высились, как часовые, бесконечные ряды сосен и елей – знаменитые мэнские леса. Бесполезный мобильник (связь здесь начинала прерываться почти сразу после выезда из города, а вскоре пропадала совсем) лежал на соседнем сиденье; монотонно мурлыкало и бормотало радио. Один раз Дэвид вздрогнул, услышав из динамика слово «Салем». Профессионально-энергичным голосом дикторша местных новостей вещала что-то вроде: «Новых сообщений из Салема нет. Шериф…» – дальше все потонуло в помехах. Дэвид потянулся к ручке настройки, начал крутить – но ничего, кроме рекламы и обрывков попсовых песенок, уже не услышал.
Ни попутных, ни встречных машин почти не попадалось. После трудового дня все нормальные люди отдыхают в кругу семьи – только ненормальные, вроде него, прутся неведомо куда, сами толком не понимая, зачем…
«Шевроле» мчался, наматывая милю за милей, мимо одинаковых сумрачных елей, кое-где разбавленных березняками и осинниками. Улыбка давно стерлась с лица Дэвида: он думал о матери.
Зачем он спешит сейчас к ней? Уж точно не из сыновней любви. Неизвестность… да, пожалуй, дело в этом. Он терпеть не может неопределенности: пусть самое страшное – но лучше узнать это сразу.
Но что здесь «самое страшное»?
Вот он въезжает в тихий ночной городок, где ему знакома каждая улица. В высоких окнах дома, где прошло его детство, горит свет – но Донна-Лу не открывает дверь. Соседи… полиция… парамедики… торопливая и тревожная возня… наконец толпой входят в дом – и видят у лестницы груду цветастого тряпья… Может такое случиться? Легко. Из-за артрита она с трудом ходит: почему бы ей не упасть с лестницы и не сломать себе шею? Или не поскользнуться в ванной? Ему представилось обнаженное тело, бледное и дряблое, раскинувшееся в какой-нибудь неестественной позе, и Дэвид тряхнул головой, поспешно отгоняя это видение. Что еще – инфаркт, инсульт? Даже молодые и здоровые порой умирают неожиданно; мало ли какая деталь может отказать в изношенном теле старухи?
Полицейские начнут расспросы: зачем приехал, почему в такой поздний час, когда и о чем в последний раз говорил с матерью. Отрывисто, не глядя в глаза, словно стыдясь, что ее не уберегли. «Да вы что, думаете, я убил ее, что ли?» – воскликнет он; тут голос у него сорвется, и врач «скорой», быть может, предложит ему успокоительное. А Линда Робертсон, добрая самаритянка, положит ему руку на плечо, словно своему сынишке, мягко подтолкнет к дивану в гостиной и пойдет на кухню готовить чай.
На самом деле ни таблетки, ни чашка обжигающего чая ему не понадобятся. И истерическое восклицание, и дрожь в голосе будут напускными, больше чем наполовину искусственными. Пусть все думают, что он в шоке; правда в том, что, увидев свою мать мертвой, Дэвид Бентон испытает облегчение. И чувство вины. Но облегчение будет сильнее.
«Я ведь совсем ее не люблю», – думает он; и эта мысль уже не вызывает ни ужаса, ни стыда. Только глубокую печаль.
В сущности, матери у него никогда не было. Настоящей – такой, которая гладит по голове, рассказывает сказки на ночь, смеется с тобой, когда тебе весело, и утешает, когда грустно… и еще сотня простых, само собой разумеющихся вещей, о которых он знает только по книгам, кино да по чужим рассказам. Такой матери, которую можно оплакивать.
Уже совсем стемнело. Ветер бросает в ветровое стекло пригоршни дождя, и Дэвид, поежившись, включает «дворники». Щурясь, вглядывается он в освещенную дальним светом осеннюю ночь, чтобы не пропустить поворот на Салем.
Вот и указатель с разветвляющейся надвое стрелкой и подписью: «Элизабеттаун 5 Салемс-Лот 20»; рядом – покосившаяся, словно вросшая в землю телефонная будка, а сразу за ней отходит от шоссе и пропадает в ельнике четырехколейка. С прошлого его приезда окружные власти так и не удосужились отремонтировать дорогу – выбоины в асфальте заметны даже в темноте. Да и телефон-автомат давно пора заменить на современный… Дэвид уже повернул, проехал ярдов тридцать на север – и вдруг тормозит, съезжая на обочину; в голову ему приходит неожиданная мысль. Мобильной связи по-прежнему нет – но ведь можно позвонить матери из автомата!
Мимо этой телефонной будки он проезжал в Салем и обратно, наверное, уже сотню раз, но ни разу не пробовал воспользоваться ею по назначению. Интересно, этот артефакт былых времен вообще работает?
Вот заодно и узнаем.
Не выключая мотор и фары – пусть будет хоть немного светлее – он идет по обочине, и жесткий жухлый бурьян цепляет его за брюки. Перед тем, как выйти из машины, он посмотрел на часы. Без десяти десять. Даже если Донна-Лу куда-то уходила – сейчас-то уж точно должна была вернуться. Значит, возьмет трубку. Или… или не возьмет.
Остекленелые глаза, приоткрытый рот с перекошенной вставной челюстью, темное пятно на ковре…
Черт! Лучше подумать о чем-нибудь другом.
Например, вспомнить ее «красный уголок». Ряды увеличенных фотографий на стене в гостиной, каждая в узорной рамочке. Словно иконостас. Мать так часто показывала ему эти снимки, что и сейчас он помнит их все – помнит даже, в каком порядке они идут, и расположение каждого. Донна-Лу верхом. Донна-Лу в бикини у бассейна. Донна-Лу, хохочущая, в обнимку с двумя подружками: обе девушки ничего, но на ее фоне безнадежно теряются. Донна-Лу меж корней огромного дуба, поросшего белесым мхом – задумчивая и романтичная, этакая лесная фея. Донна-Лу на заднем сиденье мотоцикла, прижимается к спине какого-то плечистого парня в кожанке (интересно, что думал об этой фотографии отец?) В белом платье до пола, вроде старинной ночной сорочки – на сцене самодеятельного театра, играет Джульетту. В гимнастическом трико и с обручем. У балетного станка…
Донна-Лу, только Донна-Лу. Ни мужа, ни сына рядом. Нет даже свадебных фотографий. Ни одного фото после отъезда из Джорджии.
Так безутешные родители много лет хранят школьные грамоты и награды погибшего ребенка – и со скорбной гордостью показывают их гостям.
На что рассчитывала эта ветреная красотка, уезжая с молчаливым и застенчивым инженером-янки на холодный, неприветливый Север? Чего ждала? Какого черта не пошла в актрисы, в танцовщицы, или куда она там собиралась? Вместо этого – жила с нелюбимым мужем. Родила ненужного ей, по большому счету, сына. И никому не принесла счастья – даже самой себе.
Дверь телефонной будки приоткрыта. Ручка под слоем грязи: Дэвид морщится, берется за ручку через носовой платок, тянет на себя. Душераздирающий скрежет, словно открывается дверь в склеп. Что-то, похоже, звонить отсюда – плохая идея.
Но ладно, хотя бы попробуем.
Телефон не просто допотопный – выглядит он так, словно и вправду пережил потоп; металлический короб покрыт ржавчиной, с провода, словно водоросли, свисают пряди какой-то травы. Спасибо мирозданию за тусклый свет фар, смягчающий неприглядную картину: при солнечном свете этот обломок прошлого века наверняка смотрелся бы куда страшнее.
Рукой, все еще обернутой в платок, Дэвид снимает трубку. К его удивлению, телефон откликается гудком.
И тут Дэвид думает: «Еще не поздно остановиться».
Мысль странная – и все же кажется какой-то очень правильной. Самое время остановиться. Повесить трубку, сесть в «шевроле», развернуться – и на полном ходу домой. Стягивая пиджак, ответить на сонный вопрос Мегги из соседней комнаты: да, я до нее дозвонился с дороги, все у нее нормально, просто захандрила и разыграла драму. Сама знаешь, с матушкой это бывает. А о том, что случилось в Салеме – узнать завтра из новостей.
Потому что там определенно что-то случилось. И он не хочет знать, что.
Не хочет стоять здесь, один в темноте. В ржавом гробу с гостеприимно приоткрытой
(для какой-нибудь лесной нечисти)
дверью. Боясь и того, что не услышит – и того, что может услышать.
Не хочет – но уже набирает номер, мимолетно удивляясь тому, что все еще помнит его наизусть.
Пронзительный длинный гудок бьет прямо в ухо, и Дэвид, поморщившись, отодвигает трубку подальше.
Еще раз.
Какой… мерзкий писк. И какие долгие паузы между гудками. Ладно, подождем до шести.
Три.
Ну же, мама! Если ты жива, ответь!
Четыре.
А может быть, лежит сейчас в ванной со сломанной ногой… или из последних сил пытается доползти до трезвонящего в спальне телефона…
Пять.
Или все-таки рехнулась. Вышла из дома в одном халате и сейчас бродит где-нибудь под дождем. Хотя нет, наверное, ее бы заметили соседи…
Шесть.
Или в дом забрался в поисках поживы какой-нибудь наркоман с ножом. Салем городок тихий, обычно в нем такого не случается – но ведь все когда-нибудь происходит в первый раз…
Семь.
Нет, не подходит – и не подойдет. Донна-Лу мертва, уже окоченела. Остановившиеся глаза ее устремлены в потолок, и нет рядом сына, который их закроет. Он знает это – знает так же непреложно, как то, что эта телефонная будка стояла здесь еще до его рождения. Его мать умерла, он освободился; в тоскливой бессмысленной истории поставлена точка…
На том конце провода снимают трубку.
Тишина – лишь шорох и потрескивание сливаются с шумом дождя за стеной.
– М-мама? – неуверенно окликает он.
Долгое молчание. Затем:
– Дэ-эви! – интонация странная, полувопросительная, словно Донна-Лу сама не уверена в имени сына.
– Мама! – выдыхает он, вдруг обнаружив, что уже довольно долго задерживал дыхание. От облегчения у него едва не подкашиваются ноги. – Куда ты пропала? Почему не подходила к телефону? Я… -
Он вовремя обрывает себя. Ни к чему матери знать, как он о ней беспокоился. Донна-Лу не из тех людей, которым можно показывать слабость. Вцепится – потом не оторвешь.
Снова пауза – такая, словно сигнал идет из космоса. Потом:
– Занята была. А что?
Голос ее «плывет», как у пьяной; то ли искажен помехами, то ли… И есть в нем еще что-то очень странное, но Дэвид пока не может сообразить, что.
– Боже мой, мама! – он повышает голос, пытаясь привычным раздражением заглушить нарастающую тревогу. – Ты позвонила сегодня, сказала, у тебя что-то случилось, попросила срочно приехать. Потом не отвечала на звонки. Я бросил все и помчался к тебе, как… Что там у тебя происходит, черт возьми?
– Так ты волновался обо мне, Дэ-эви? Как ми-ило с твоей стороны! – Все с той же странной интонацией, полу-нежно, полу-насмешливо растягивая слова.
“Да она издевается надо мной!” – думает он со злостью. Это первая мысль. А вторая: точно, как пьяная. Но Донна-Лу почти не пьет. Что с ней? Наглоталась таблеток? Или, может быть, микроинсульт?
– Не бойся, – говорит она, и голос ее в трубке, среди щелчков и потрескиваний, напоминает об осенних листьях, шуршащих под ногами. – Нечего бояться, Дэ-эви. Теперь все хорошо. Я наконец…
Последнее слово съедают помехи. Что она сказала? «Здорова»? Нет, как-то иначе.
– Мама! Скажи только одно: мне ехать в Салем или нет? Я тебе нужен?
В трубке шелестит смешок.
– Конечно, нет, милый! Почему ты никогда меня не слушаешь? Я же сказала: я наконец свободна.
Дэвид хватается за ржавую раму, чтобы не упасть; в голове у него вдруг становится пусто и звонко, к горлу подкатывает тошнота. Он понял, что не так с ее голосом. Исчезло старческое дребезжание и хныканье; голос Донны-Лу мелодичен и певуч, как тридцать лет назад.
– Разумеется, ты мне не нужен, – продолжает она, – но я рада буду тебя видеть. Приезжай, я и тебе покажу, как быть свободным. Приезжай, Дэви. Я выйду тебя встречать.
Голова кружится все сильнее: он прикрывает глаза, упирается лбом в телефонный аппарат…
И – выпрямляется, словно от толчка, недоуменно моргает, глядя на дорогу, залитую светом фар, и «дворники», елозящие по сухому переднему стеклу.
Что за черт!
Он в “шевроле”. На обочине разбитой четырехколейки – значит, поворот на Салем остался позади. У правого локтя заунывно мурлыкает радио; еще правее часы показывают 23:37.
Неужели заснул за рулем? Первый раз с ним такое. Слава богу, хотя бы сообразил в полусне съехать на обочину и остановиться!
А как же… телефон? И разговор с матерью? Выходит, все это ему приснилось? Или он все-таки выходил из машины, был в телефонной будке…
Стоп! Дэвид трясет головой и энергично промаргивается. Он сотню раз ездил по этой дороге в Салем и обратно – и точно помнит, что никакого телефона-автомата на перекрестке НЕТ!
Конечно, нет. Да и откуда ему там взяться, в лесу глухом? Ни мотеля, ни кафешки, ни заправки, ни даже общественного туалета – кому пришло бы в голову ставить там телефон?
Разумеется, нет и никогда не было. И все же допотопная будка по-прежнему стоит перед глазами: кажется, стоит сомкнуть и опять разомкнуть веки – и он снова окажется там, среди влажных шорохов ночного леса, и по крыше будет шуршать дождь, и мать – или не мать? – с удивительно молодым голосом, говорящая что-то непонятное о свободе…
Он выключает «дворники». На стекле ни капли – значит, дождь ему тоже приснился. С другой стороны, зачем-то же он их включил!
Зажигает свет в салоне, осматривает свои ботинки и брюки, пытается найти на них грязь, налипшие листья – что-нибудь, указывающее на то, что он недавно выходил. Ничего не видно. Впрочем, если не было дождя, то снаружи должно быть сухо.
Платок! Точно! Он брался за ручку кабинки и за телефонную трубку через платок. И они были очень грязными: должны остаться следы. Дэвид смотрит на сиденье рядом с собой, где валяется по-прежнему бесполезный мобильник, затем роется в карманах, проверяет бардачок. Платка нет – ни чистого, ни грязного. «Должно быть, я его там оставил», – думает он – и смеется этой мысли, но тут же обрывает себя. Звук собственного смеха ему не нравится. Истеричный какой-то.
«Не глупи, Дэйв, – говорит он себе. – Включи голову. Нельзя забыть платок в телефонной будке, которой нет».
Он задремал в машине, только и всего. И – должно быть, от усталости и беспокойства, а может, от неудобной позы – увидел яркий неприятный сон. Вот и все. На самом деле он никуда не звонил, и не говорил с матерью… и по-прежнему не знает, что с ней.
А время, между прочим, без двадцати двенадцать. Сколько же он проспал? Мегги наверняка уже беспокоится. Надо спешить.
Дэвид трогается с места, подавляя в себе неуместное желание развернуться, доехать до перекрестка и проверить, не выросла ли из земли телефонная кабинка. Чтобы отвлечься и снова не вырубиться, делает радио погромче.
Там звучит эстрадная песенка: снова и снова повторяется одна и та же музыкальная фраза, певица призывно и в то же время с какой-то безнадежностью в голосе выпевает:
Идем со мной,
Идем со мной,
И ты увидишь,
Идем со мной,
И я покажу тебе,
Что значит быть свободным…
Это подкрепляет его уверенность. Ну конечно: он услышал припев, и эта фраза про свободу вплелась в его сон. Неудивительно, что голос Донны-Лу во сне звучал так странно – это был попросту не ее голос!
Дэвид выезжает на дорогу и набирает скорость; он еще не потерял надежду попасть в Салем до полуночи.
«Как быть свободным, – думает он, до боли в глазах вглядываясь во тьму. – Как быть свободным… А как? Кто-нибудь вообще умеет?»
Он воображал, что освободился от матери – от ее перепадов настроения, вспышек злости, непредсказуемых и непонятных обид, противоречивых требований и ядовитых упреков. От вечного ощущения, что в чем-то страшно перед ней виноват. Освободился, когда понял: виноват уж тем, что хочется ей кушать. Ей нужен был какой-то другой сын – или вовсе никакого; и недовольство своей несложившейся жизнью она вымещала на нем. Он пытался заслужить ее одобрение – а она одобрила бы его разве что на смертном одре. Или если бы он сам умер. Тогда, по крайней мере, Донна-Лу могла бы разыгрывать безутешную мать, собирая со всех окружающих дань если не восхищения, то сострадания…
Он думал, что свободен, что все отболело и больше его не тревожит. Но, стоило матери щелкнуть пальцами, сказать: «Ты мне нужен» – и вот он, взрослый мужчина, без пяти минут отец семейства, вскакивает и, изнемогая от тревоги, мчится к ней.
А Мегги? Вроде бы у них любовь, придраться не к чему. Друг дружку они не обижают. Но когда один человек не может уснуть, не получив отмашку от другого – точно ли это любовь? Не вернее ли назвать это рабством? Уже полночь: она, бедная, должно быть, места себе не находит… с этой мыслью он еще прибавляет скорость. Сейчас ее трясет при мысли, что с ним может что-то случиться – а через два месяца бродить взад-вперед по приемному покою больницы и не находить себе места будет уже он. Родится малыш (если все будет хорошо, тьфу-тьфу), и оба начнут с удвоенной силой трястись над ним; потом (тьфу-тьфу три раза) он вырастет, а они состарятся, и уже он будет трястись над ними, а еще над собственными детьми… Скованные одной цепью, из поколения в поколение – цепью привязанности и страха потерять. Где же здесь свобода?.. И что у них там, пластинку у диджея заело, что ли – уже полчаса без перерыва крутят одно и то же?!..
Он замечает ее слишком поздно. Тоненькая девичья фигурка в чем-то белом и длинном, непонятно откуда вынырнувшая на дорогу. Дэвид бьет по тормозам, отчетливо понимая, что остановиться не успеет. Словно в замедленной съемке, перед ним мелькает голое плечо со сползшей бретелькой, копна волос, застывшая улыбка на странно неподвижном и странно знакомом лице…
А в следующий миг раздается удар. Дэвид прикладывается лбом о ветровое стекло и, кажется, на секунду теряет сознание; машину заносит, она начинает вертеться вокруг своей оси, выезжает на соседнюю полосу и останавливается.
Несколько минут Дэвид сидит, как очумелый, потирая лоб и тупо глядя перед собой. Затем тянется за мобильником. Одно деление. Нет, ни одного. Снова одно. Непослушными пальцами набирает 911. «Нет связи». Ну разумеется!
Девушка – его жертва – осталась позади; отсюда ее не видно, даже если перегнуться назад и вывернуть шею. Откуда она вообще здесь взялась среди ночи? До города еще мили три, не меньше, и никакого жилья в окрестностях нет. На улице промозглый холод, а она в какой-то ночнушке… Бежала от кого-то? Наркоманка? Или просто сумасшедшая? Так или иначе, откуда-то она появилась, зачем-то выскочила на дорогу… а он ее искалечил или убил. И это ему уж точно не приснилось. И шишка, вспухающая на лбу, и сеть трещин на ветровом стекле – определенно не сон.
Схватив мобильник, он выбирается из машины – с тайной надеждой, что все-таки просто снова увидел кошмар, и никакой девушки, живой или мертвой, на дороге не окажется. Но она здесь. Просто далеко отлетела. Вон, на обочине, мутно белеет в свете фар. Мертвая – это ясно сразу. Живой человек в такой позе лежать не может.
Дэвид идет к ней – и с каждым футом шаги его становятся все медленнее, все неувереннее, как у пьяного, а глаза раскрываются все шире. Он видит то, чего не может быть.
С чего он вообще решил, что она молода? Нет, это вовсе не юная девушка; босые ноги ее, торчащие из-под непристойно задранного подола – ноги старухи, изуродованные артритом, с шишковатыми пальцами. Откинутая рука с двумя кольцами – старушечья рука. Растрепанные волосы – поредевшие, небрежно прокрашенные, полуседые. И лицо…
Перед ним, устремив остановившийся взгляд в беззвездное небо, лежит Донна-Лу.
Лицо ее строго и неодобрительно, но потек крови в уголке рта создает впечатление легкой затаенной улыбки. Почему-то очень мало крови. И со ртом у нее что-то странное… глаза его отмечают эти странности, но разум их не фиксирует – его целиком поглотила одна мысль:
О-Г-О-С-П-О-Д-И-Я-У-Б-И-Л-С-В-О-Ю-М-А-Т-Ь-Я-У-Б-И-Л-С-В-О-Ю-М-А-Т-Ь-Я-У-Б-И-Л…
Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет просто сон! Как тот, с телефоном!..
Нет, не сон. Все реально. Он стоит посреди ночного леса, в погребальной тишине – ни шороха зверьков, ни пения ночных птиц – над мертвым телом своей матери.
Свободы хотел? Получай!
Как она здесь оказалась – в одной ночной рубашке, босиком? Как, со своим артритом, прошла пешком несколько миль? Но не все ли равно – мама сказала, что ждет его, что выйдет его встречать…
(нет, не говорила, это было во сне)
…и действительно вышла встречать.
А он ее убил.
Дэвид снова пытается набрать 911. Не попадает по клавишам, отбрасывает мобильник, опускается перед матерью на колени. Хочет закричать, но не может – что-то сжимает горло; не сразу из груди его вырывается слабое, почти детское хныканье.
– Мама! Мама!!
Он падает на труп – жесткий, уже окоченевший. Впервые в жизни мать его не отгоняет и не мешает себя обнять.
Из полузабытья вырывает его рука, гладящая по голове.
– Мама?!
С безумной надеждой он вздергивает голову.
Донна-Лу приподнялась и смотрит на него.
– Дэ-эви… – голос ее шуршит, словно горло набито сухими листьями.
От ее взгляда его словно отбрасывает на пару футов; он откатывается на траву и смотрит на нее, как зачарованный, не в силах шевельнуться.
Донна-Лу садится, затем поднимается на ноги – слитным плавным движением, как будто в теле ее вовсе нет ни суставов, ни костей. Голова ее на сломанной шее склонена к плечу. Она не сводит с него глаз – широко раскрытых и черных, как беззвездная ночь.
– Не бойся, Дэви, – говорит она все тем же шуршащим полушепотом; в прогале рта мелькают блестящие острые зубы. И делает шаг к нему.
На миг приходит безумная мысль: он снова стал маленьким, а мать приготовила для него какую-то очередную пакостную процедуру, вроде клизмы – и следующими ее словами станет хорошо знакомое: «Опять ревешь! Ну как не стыдно, ты же мальчик!»
Тем более, что он действительно ревет. По щекам его текут слезы, он тихонько подвывает и не может остановиться.
Но Донна-Лу говорит совсем другое.
– Нечего бояться, милый, – говорит она. – Я больше не сержусь. И это совсем не страшно.
Облик ее расплывается и двоится у него в глазах: он видит сразу два тела, два лица: старуху – и юную красавицу с фотографий в гостиной. Но у старухи и у красавицы – одинаковые мраморные лица, огромные неподвижные глаза. Одна острозубая улыбка на двоих.
«Бежать… – медленно, вяло думает он. – Вскочить, добраться до машины. Может, успею…» Но сам знает, что это пустая болтовня. Никуда он не побежит.
– Ты просто уснешь. – Голос у нее тоже двоится: он слышит сразу голос молодой Донны-Лу – нежный, певучий, словно созданный, чтобы декламировать стихи со сцены – и шуршащий голос мертвой. – Уснешь сладким сном – и проснешься свободным, как я. Как все мы здесь, в Салеме…
И в этот миг у его левой руки звонит позабытый мобильник.
Не сводя глаз с матери, Дэвид машинально протягивает руку за телефоном. На экране – милое личико Мегги.
– Дэйв! – связь очень плохая; голос ее едва различим.
– А? – говорит он.
– Господи, Дэйв, где ты? Я чуть с ума не сошла, тебе невозможно было дозвониться! Ты вообще знаешь, сколько сейчас времени?
Мать остановилась в трех шагах и молча смотрит на него. Ждет, когда он поговорит с женой. При жизни Донна-Лу такой деликатностью не отличалась.
– Полночь… наверное. – Он откашливается. – Мегги, я…
– А почему у тебя такой голос? Дэйв, с тобой все нормально?
– Все в порядке, – отвечает он уже почти нормальным голосом. – Я просто еще не доехал. Я… колесо спустило, пришлось задержаться. Позвонить не мог – не было сети.
– Ну слава богу! А то я тут уже просто… Когда будешь в Салеме? Позвонишь оттуда?
Мать делает к нему еще шаг. От нее пахнет землей и старыми духами.