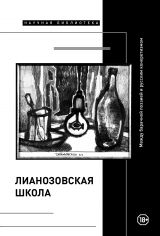
Текст книги "«Лианозовская школа». Между барачной поэзией и русским конкретизмом"
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Генрих Сапгир обращался к конкретистским приемам пермутации – но в основном только в своем позднем творчестве, в начале 1990-х годов, в таких книгах, как «Развитие метода» (1991) или «Собака между бежит деревьев» (1994). Тогда же он делает несколько переводов немецких поэтов-конкретистов, ища русские поэтические эквиваленты их опытам8686
Гомрингер О., Мон Ф., Рюм Г., Ульрихс Т. Конкретные стихи / Пер. с нем. и вступ. Г. Сапгира // Иностранная литература. 1993. № 4. С. 34–37.
[Закрыть]. Судя и по переводам, и по авторскому предисловию к подборке, Сапгир прежде всего видел в «конкретных поэтах» авторов, работавших с визуальной формой стиха – что ему не было столь же близко, как, например, Всеволоду Некрасову, но было интересно как поэту, который каждый сборник своих стихотворений строил на каком-то новом приеме, ложившемся в основу всей книжки. В интервью В. Кулакову он говорит об упоминавшейся нами выше статье Евгения Головина «Лирика „Модерн“», а также статье Льва Гинзбурга «В плену пустоты»8787
Гинзбург Л. В плену пустоты // Литературная газета. 1969. № 7. С. 13.
[Закрыть], из которых в середине 1960-х советские читатели узнали о существовании «конкретной поэзии»:
Да, конечно, статьи эти хорошо помню. Но у нас уже все это было к тому времени. Потом уже, в начале 80-х годов, Сергей Сигей и Ры Никонова (такие неофутуристы, мои друзья, живут в Ейске) показали мне книжку – сборник конкретной поэзии, изданный на Западе где-то в конце 50-х. Там были напечатаны англичане, немцы, японцы – на языке оригинала и в английском переводе. Таким мне это показалось интересным, что я сделал десятка полтора переводов. Переводил с английского и с немецкого. Тем не менее та поэзия сильно отличается от нашей, от того, что мы называем конкретизмом, у них поэзия более абстрагированная, визуальная. Мы такими никогда не были8888
Сапгир Г. Взгляд в упор: Интервью В. Кулакову // Кулаков В. 1999. С. 327.
[Закрыть].
Определенные черты, роднящие его опыты с немецкоязычными конкретными поэтами, можно обнаружить даже у Евгения Кропивницкого: не случайно подборку его стихотворений в издании «Lianosowo 1992» замыкает стихотворение «Полустертая эпитафия», соединяющая опыты «found poetry» с визуальными экспериментами (в том числе – в области «руинированного» слова) и даже концептуалистской поэзией (подменяющей «основной текст» его описанием):
Известно, что современные эпитафии являются ценнейшим материалом для исследователей стиха9090
См., напр., Кормилов С. Маргинальные системы русского стихосложения. М.: Изд-во МГУ, 1995.
[Закрыть], и текст Кропивницкого допускает сразу несколько взаимоисключающих интерпретаций: как целиком авторский текст, дающий образ полустертой эпитафии, и как использованный «найденный» текст, снабженный попутными авторскими комментариями, указывающими на место, время обнаружения текста и его состояние.
Таким образом, для русских неподцензурных поэтов «Лианозовской школы» их «схожесть» является инструментом продвижения национальной поэзии в пространство поэзии мировой, давая своего рода «ключ» к ее пониманию иноязычным читателем по аналогии со знакомыми ему литературными явлениями. Но при этом для них важно избавить поэта от подозрений в его вторичности, в подражательности иностранным образцам. Даже его интерес к этим образцам понимается не как подражание, но как интерес равного к равным, к близким поискам в общем контексте мировой литературы. Именно включенность в этот контекст при понимании национальной специфики и позволяет сегодня все чаще называть поэтов «Лианозовской школы» русскими конкретистами.
Но в таком случае важно обратить внимание еще и на то, что само по себе слово «конкретисты» или «конкретизм» практически не употребляется ни самими «конкретными поэтами», ни их исследователями: судя по всему, оно если и не впервые возникло, то укрепилось именно в русскоязычной среде – по аналогии с названиями других литературных течений и группировок – «символисты», «футуристы», возможно даже «абстракционисты» или «трансфуристы»: по крайней мере в немецко-, португальско-, франко– или англоязычных антологиях или исследованиях (а это основные языки мировой конкретной поэзии) используются понятия Konkrete Poesie / Dichter, concrete poetry / concrete poets / poesia concreta, / De la poésie concrète и т. п.9191
См.: Campos A. et A. Plano-piloto para poesia concreta. Teoria da poesia concreta. São Paulo, 1965; An anthology of concrete poetry / Ed. E. Williams. N. Y., 1967; Konkrete Dichtung: Texte und Theorien / Hrsg. von S. J. Schmidt. Münch., 1972; Sharkey J. J. Mindplay: An Anthology of British Concrete Poetry. London, 1971; International Anthology of Concrete Poetry / Ed. J. Jessop. Toronto 1978; Campos A. de, Pinatari D., Campos H. de. Theoria da poesia concreta. Textos críticos e manifestos 1950–1960. Edições Invenção, 1965; McCullough K. Concrete Poetry; An Annotated International Bibliography, with an Index of Poets and Poems. NY, 1989. Нами обнаружены считанные издания, оперирующие понятием «конкретизм», см.: An Anthology of Concretism / Ed. E. Wildman // Chicago Review. 1967. Bd. 19, Nr. 4, September; Alves L. E. O concretismo revisitado // Tanto – Revista literária. Abril de 2010.
[Закрыть]
Собственно, наша гипотеза заключается в том, что само понятие «русский конкретизм» применительно к творчеству поэтов «Лианозовской школы» – и прежде всего к нему – есть вполне релевантное определение, если понимать под «конкретизмом» вполне органичное для развития русскоязычной поэзии явление, и определять его именно как «конкретизм» необходимо для подчеркивания национального своеобразия – и отличия от европейской и мировой «конкретной поэзии», которой «русский конкретизм», безусловно, родственен, но не тождественен. По-видимому, вслед за Л. Уйвари и Э. Лимоновым одним из первых, кто попытался не просто определить «лианозовцев» как «конкретистов», но охарактеризовать и обосновать их творчество как «конкретистское», был Владислав Кулаков в своей основополагающей статье «Лианозово. История одной поэтической группы», поясняя:
Термин «конкретная поэзия» возник на Западе в послевоенное время, и западный конкретизм, действительно, вполне сопоставим с поэзией лианозовской группы. Разумеется, только в самом общем плане – конкретное выражение каких-то общих эстетических тенденций на нашей почве оказалось резко специфичным. И конечно же, никаких взаимных влияний тут быть не могло, по крайней мере до середины 60-х, когда у нас впервые написали о конкретистах9292
Кулаков Вл. 1999. С. 14.
[Закрыть].
В этой же статье Кулаков говорит про «конкретистский принцип регистрационности», характерный для ряда стихотворений Кропивницкого, Холина, Сапгира и Сатуновского, ссылаясь при этом на Вс. Некрасова, который говорит о двух типах этой регистрационности, когда пишет об отличии работы с чужим, идеологизированным словом Холина и Сапгира – и работы поэта с собственным словом, не изначально «поэтическим», но осмысленным как таковое в момент его произнесения, словом конкретным:
Почти классическая конкретистская регистрация речевого события, факта, только речь не внешняя (вроде заголовков или вывесок), а внутренняя – или еще чуть глубже. Само событие как момент выхода в иномерность, точка нарушения. Не так кристалл, как сучок. Не знаю, кто еще так умеет себя ловить на поэзии9393
Некрасов Вс. Объяснительная записка // Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 303–304.
[Закрыть].
Ссылка на раннюю (1979–1980) статью Некрасова тут неслучайна: исследователем зафиксирован момент, когда сам Некрасов «ловит на поэзии» в своем собственном понимании поэта своего круга – Яна Сатуновского, тем самым констатируя близость их работы со словом – которая и получает определение «конкретистская регистрация». Замыкая свою статью характеристикой творчества Вс. Некрасова, Кулаков тем самым и очерчивает ядро «Лианозовской школы» из пяти поэтов, ставшее теперь общепринятым (о близости лианозовцам Лимонова или Льва Кропивницкого он в ней упоминает, но «не берет в разработку»), и в финальном абзаце подводит черту под вопросом об общих чертах их творчества, определяющую групповую поэтику, – используя важное понятие: «Лианозовский конкретизм»:
Дополнил свои наблюдения Владислав Кулаков в небольшой заметке «Конкретная поэзия и классический авангард»: он не различает здесь понятия «конкретная поэзия» и «конкретизм», используя их как синонимы, отмечает общность истоков у мирового (прежде всего немецкоязычного) и русского «конкретизма» – в поэзии «исторического авангарда» (футуризме, дадаизме), проводит ряд принципиальных разграничений – прежде всего между «конкретной» и «визуальной» поэзией, что позволяет противопоставить ему нынешнее, чересчур расширительное понимание «конкретной» поэзии как поэзии «визуальной» – тому пониманию понятию «конкретное», которое вкладывалось в него в момент зарождения «конкретной поэзии» и которое в равной степени релевантно и мировому, и русскоязычному «конкретизму» послевоенного времени 1950–1960-х годов:
Конкретизм не пытается делать искусство «из всего», вообще стараясь делать, «творить» как можно меньше. Материал сохраняет свое основополагающее значение, но становится уже не столько материалом, который надо разъять, очистить, сколько готовой формой. Он не допускает абстрагирования, освобождения от своих внешних семантических связей, он именно конкретен, функционален. Слово всегда остается «предметом», поэтому визуальность – имманентное свойство конкретной поэзии. Но это не «самовитое» слово, а именно «конкретное», помнящее о своей речевой функциональности. И здесь, на пересечении вербальных и визуальных возможностей такого слова, открывается обширное поле деятельности9595
Там же. С. 169.
[Закрыть].
Очевидно, что для самого Кулакова временными границами «русского конкретизма» как целостного явления становится конец 1970-х годов, когда одни авторы прекратили творчество (Кропивницкий умер в 1979 году, Сатуновский в 1982-м, Холин оставил творчество уже к началу 1970-х), а поэтики других (Сапгир, Некрасов, Лимонов) довольно далеко разошлись, да и дружеские связи ослабли: так, он свидетельствует, что «сегодняшний Сапгир, конечно, очень далеко ушел от «Голосов», от «классического» конкретизма»9696
Кулаков Вл. 1999. С. 25.
[Закрыть].
В то же время – в начале 1990-х свое видение общности эстетики «Лианозовских конкретистов» предлагают и авторы предисловия к изданию «Lianosowo-92» Георг Хирт и Саша Вондерс:
Свой смысл вкладывают лианозовцы и в понимание термина «конкретный». В отличие от языковых жестов западной конкретной поэзии, указывающих на знаковое качество слова, буквы или звука, у лианозовцев «конкретность» понимается, наоборот, как указание на «предмет»: как взгляд на реалии жизни, не искаженный никакими литературными условностями. И все же, несмотря на различия в подходах, есть также и сходство в этих двух поэтических школах: именно жест цитирования в лианозовской поэзии позволяет конкретной фактуре жизни восприниматься также и как фактура языка. При этом семиотическая ориентация лианозовской поэзии не ограничивается абстрактной критикой языка, а всегда остается конкретной в смысле соотнесенности с повседневными жизненными ситуациями9797
Lianosowo 1992. S. 20 (пер. О. Денисовой). См. также наст. изд.
[Закрыть].
Характерно, что Владислав Кулаков не всегда различает «конкретный» и «конкретистский», употребляя эти определения в сходных контекстах9898
По-видимому, у слова «конкретистский» – значение «относящийся к конкретизму» (ср. «символистский», напр. «символистский роман»).
[Закрыть], тогда как западные слависты терминологизируют – видимо, вслед за Вс. Некрасовым – именно понятие «конкретный», отмечая разность понимания данной дефиниции применительно к слову у западных – и русскоязычных поэтов: западное «конкретное» слово – это слово опредмеченное, превращенное в образ или даже в средство изобразительности, русское «конкретное» – скорее противопоставлено слову «абстрактному» – отвлеченному, «опоэтизированному» или идеологизированному – можно сказать, «голому слову на голой плоскости листа».
Михаил Айзенберг в своем очерке «Точка сопротивления» тоже очерчивает свой круг поэтов, которых относит (или которых относят) к «русским конкретистам», как будто исключив из него Е. Кропивницкого (не упоминая его) – но при этом причислив близкого «лианозовцам» М. Соковнина. Говоря о сходстве их с «конкретистами» европейскими, автор цитирует Гомрингера: «Мы должны давать только обнаженные слова, без грамматических связей, без отвлеченных понятий, слова, обозначающие либо конкретные действия, либо конкретный предмет»9999
Цитата дана в переводе Е. Головина и скорее всего заимствована из его статьи (см. Головин Е. 1964. С. 199).
[Закрыть] как наиболее близкого им, но делает оговорку:
Русский конкретизм – прежде всего разрыв с инерцией стихосложения. В поэтический язык вросло столько обязательного – обязательной лексики, обязательного пафоса и сентиментальности, – что, похоже, работать он мог только на холостом ходу. Никакая реальность уже не стояла за его рутинными, почти ритуальными формами100100
Айзенберг М. Оправданное присутствие: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 19.
[Закрыть].
При этом М. Айзенберг в основном посвящает свою статью разговору «о новых возможностях поэтической речи, обнаруженных стиховой практикой Яна Сатуновского и Всеволода Некрасова»101101
Там же.
[Закрыть], – и это позволяет ему провести две разделительные черты: между русским – и европейским «конкретизмом» с одной стороны, и между русским конкретизмом – и концептуализмом с другой, тем самым очертив «лица необщее выражение» этой группы. Для Айзенберга и Сатуновский, и Некрасов не сосредотачиваются на критике языка и поэтического субъекта, как это делают – каждый по-своему – «конкретные поэты» и «концептуалисты». Они осторожно и немногословно ищут в узком промежутке между недоверием к девальвированному опытом «после Аушвица» слову и поэтической традиции – и теми же самыми «словом» и «традицией», но осмысленными как неизбежно идеологический, а потому и тоталитарный «конструкт», возможность нащупать условия проявления субъективного, лирического по своей природе, собственно «поэтического» высказывания. Иначе говоря, «русские конкретисты» в понимании Айзенберга не готовы отказаться ни от субъектности говорящего в стихотворении, ни от «лиризма», пусть и приглушенного конкретистскими «фильтрами»: они пишут о возможности «поэзии», а не о ее «невозможности» в открывшихся обстоятельствах. Поэтому, по словам критика, «авторский голос и подразумеваемый комментарий необъяснимым образом существуют даже в тех стихах Сатуновского, которые сделаны по типу „готовой вещи“ и состоят только из обрывков чужой речи и газетной бестолочи»102102
Айзенберг М. Оправданное присутствие. С. 20.
[Закрыть], для Вс. Некрасова же «куда важнее <…> сам текст как языковое переживание, как непредсказуемая возможность лирического высказывания. А это страшно далеко от собственно концептуальных проблем»103103
Там же. С. 22.
[Закрыть].
Таким образом, после этих работ, а также после статьи М. Сухотина «Конкрет-поэзия и стихи Вс. Некрасова», окончательно закрепляется представление о поэтах «Лианозовской школы» именно как «русских конкретистах» – вслед за «русскими символистами» или «русскими футуристами». Безусловно, не только в творческих практиках поэтов-лианозовцев можно обнаружить типологические схождения с аналогичными опытами их зарубежных современников – «конкретных поэтов», как далеко не только лианозовцы прежде других узнали о существовании этого течения и проявили к нему интерес как к явлению близкому их собственным поискам: об опытах именно «конкретной поэзии» в его общемировом понимании можно говорить в творчестве В. Эрля, А. Ника, Л. Аронзона, А. Кондратова, С. Сигея и Ры Никоновой, В. Бахчаняна, В. Барского, А. Очеретянского и целого ряда других авторов, хотя ни для кого из перечисленных поэтов эти опыты не являются магистральными в их творческих поисках.
Что же касается поэтов «лианозовцев», эти схождения и конкретные факты интертекстуальных контактов (впрочем, на первом этапе односторонних) с западными «конкретными поэтами» достаточно убедительны, как нельзя не видеть и некоторых общих культурно-исторических и даже политических оснований возникновения обеих «школ» именно в СССР и в германоязычных странах, наиболее пострадавших от тоталитаризма предшествующих десятилетий. Но в этом случае очевидны и зримые расхождения, обусловленные тем, что творчество «Лианозовских конкретистов» развивалось прежде всего в общей логике русскоязычной поэзии, восходя к историческому авангарду первой трети ХХ века, – и, по-видимому, во многом обеспечив этот естественный переход от завершившегося в себе авангарда – к поставангарду. Оно вобрало в себя опыт жизни именно в условиях советского тоталитаризма с его репрессивной практикой и его перерождения в более мягкую, авторитарную систему, испытало влияние своеобразного «барачного» быта и уклада советского столичного предместья – и одновременно «подпольного» существования в кругу «своих», в котором творческие связи подчас неотделимы от связей дружеских и родственных. И в этом смысле раннее творчество Э. Лимонова или М. Соковнина действительно ближе к «лианозовскому конкретизму», чем даже творчество тех поэтов, которые сознательно обращались к «конкретной поэзии» как к определенному, уже известному им художественному языку, и при этом принадлежали иным, далеким или вовсе не пересекавшимся с «лианозовским», кругам. Так что определение «Лианозовской школы» как «русского конкретизма», рассмотрение его как своеобразного – но при этом в значительной степени включенного в общемировые культурные процессы даже вопреки известной культурной изоляции СССР, вполне релевантно и научно оправданно.
Алена Махонинова
«ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ И ЕГО КРУГ»
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АВТОРАМ «ЛИАНОЗОВСКОЙ ШКОЛЫ»
С творчеством некоторых представителей «Лианозовской школы» читатели в Чехословакии могли познакомиться, еще когда она не носила своего имени и была просто небольшим кругом друзей и единомышленников. В официальной чехословацкой печати шестидесятых годов благодаря открытой атмосфере и послаблению цензуры появилось несколько публикаций, посвященных в основном Всеволоду Некрасову и вместе с тем более широкому кругу рекомендованных им поэтов и художников, ставших таким образом для чешских читателей своеобразным «кругом Некрасова». С концом Пражской весны публикации авторов этого круга в Чехословакии почти на тридцать лет прекратились.
Данная статья в возможно более полном объеме представляет чехословацкие материалы о лианозовских авторах, выходившие в журнальных и книжных изданиях на протяжении шестидесятых годов. Одновременно это попытка исследовать способ подачи их творчества иностранному читателю, затрагивающая качество и стиль перевода отдельных стихотворений на чешский язык104104
Статья является расширением и исправлением попытки автора подойти к данной теме, предпринятой в статье: Махонинова А. «Всеволод Некрасов и его круг»: чешские публикации шестидесятых годов о лианозовской группе // Toronto Slavic Quarterly. 2017. № 61. С. 172–192. Автор выражает глубокую благодарность Галине Зыковой за все предоставленные архивные материалы.
[Закрыть].
* * *
Что ж, вот и вы… пожалуйте!
Пожалуйте, летние гости,
из недр холода,
пожалуйте к нам
по обычаю прежних дней,
с хлебной бронёй,
со слезотворным кристаллом соли,
разъедающим
всё, что слетело с небес.
Пожалуйте в любовные объятья,
где кости трещат
и кровь течёт
из плодов
на исходе солнца.
И снова глухонемые с глухонемыми.
И снова осины,
эти осины, дрожащие от одной мысли про Иуду.
Петух прокричал на заре.
Отрекаюсь,
никогда не знал вас.
Отрекаюсь и дважды,
и трижды105105
Перевод с чешского Дмитрия Кузьмина. Цит. по: Дмитрий Кузьмин // Живой журнал. https://dkuzmin.livejournal.com/615266.html.
[Закрыть].
Чешский поэт, литературный критик и переводчик Антонин Броусек (1941–2013) написал это стихотворение 21 августа 1968 года, в день ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию, и опубликовал его на следующий день, в специальном выпуске газеты «Литерарни листы» (Literární listy)106106
Brousek A. Tak už jste tady… vítejte // Literární listy. 22.8.1968. Zvláštní vydání. S. 1. Еженедельник Союза чехословацких писателей «Литерарни листы» выходил под этим названием с марта по октябрь 1968 года, продолжая деятельность газеты «Литерарни новины» (Literární noviny), закрытой в сентябре 1967 года. Благодаря специальным выпускам в августе 1968 года газета «Литерарни листы» стала одним из центральных очагов сопротивления советской оккупации. После августовских событий, в ответ на смену режима, газета была переименована в «Листы» (Listy), и под этим названием она просуществовала с ноября 1968 по май 1969 года. Броусек являлся редактором всех ее ипостасей (с 1967 по 1969 год).
[Закрыть], в которой он тогда работал редактором.
Последние строки этого горько ироничного стихотворения, в которых лирический субъект решительно отрекается от любого знакомства с «летними гостями из недр холода», имеют для Броусека особое, чисто личное значение, так как их автор с 1958 по 1961 год изучал в Праге, помимо чешской, и русскую филологию. И хотя учебу в Карловом университете Броусек по собственному желанию оставил, на протяжении большей части шестидесятых годов будучи редактором издательства «Свет совету» (Svět sovětů), сотрудником литературного отдела Чехословацкого радио или, во время военной службы, редактором журнала «Ческословенски вояк» (Československý voják), он, тем не менее, интенсивно занимался русской культурой107107
См. библиографию Антонина Броусека: Špirit M. Bibliografie Antonína Brouska (Soupis nebásnického díla) // http://www.ipsl.cz/upload/files/bibl-brousek.pdf.
[Закрыть], в том числе и неофициальной, и поддерживал отношения с ее представителями. От них, к счастью, молодому чешскому поэту отрекаться не пришлось. Тем более что некоторые русские авторы сами в своем творчестве отозвались на эти позорные события108108
Подробнее о том, как русская интеллигенция в целом и русские литераторы в частности воспринимали вторжение в Чехословакию, см.: Гланц Т. Позор. О восприятии ввода войск в Чехословакию в литературных и гуманитарных кругах // Вторжение: Взгляд из России. Чехословакия, август 1968. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 141–190.
[Закрыть]. Среди них, например, и лианозовский поэт Ян Сатуновский, обыгрывающий в тогдашнем своем стихотворении с номером 594 как раз слово «позор».
Какое крестьянство?!
Какая интеллигенция?!
Какой рабочий класс?!
Еще вчера по-чешски:
– Pozor! Pozor!
Сегодня по-русски…
Когда же я буду жить?!
Мне уже за тридцать!
Я ошибся!
Мне уже под шестьдесят!109109
См. наиболее полное на сегодняшний момент собрание стихотворений поэта: Сатуновский Я. Стихи и проза к стихам / Сост., подгот. текста и комм. И. И. Ахметьева. М.: Виртуальная галерея, 2012. С. 264.
[Закрыть]
И это стихотворение Сатуновского, впервые публиковавшееся только в 1992 году в его сборнике «Хочу ли я посмертной славы», датировано днем, когда советские танки вторглись в Чехословакию. Настойчивый призыв «Внимание! Внимание!», звучавший в нем по-чешски, и также по-чешски записанный «Pozor! Pozor!», вдруг наполняется своим русским, совершенно другим значением – «позор», т. е. постыдное положение, вызывающее презрение. В силу межъязыковой омонимии слово «позор» по-русски повторять уже не надо. Тем более что чувство собственного стыда явно прочитывается в последующем, отчаянном вопросе «Когда же я буду жить?!» и также в заключительных восклицаниях, лишающих лирический субъект любых видов на будущее. Ведь последняя строка «Мне уже под шестьдесят!» звучит во многом угрожающе и обреченнее, чем предыдущее утверждение «Мне уже за тридцать!» – хотя сам возраст от этого никак не меняется. Но зато после этого одного августовского дня резко меняется перспектива – и вместе с тем, постепенно, отменяются перспективы.
На оккупацию Чехословакии сразу же110110
Относительно более конкретной даты написания стихотворения, посвященного вторжению в Чехословакию, Михаил Сухотин пишет: «А. И. Журавлёва, жена Некрасова, рассказывала, что стихотворение „Ночь как загустевает“ было написано сразу вслед событиям в Чехословакии 68 года, то есть в 20-х числах августа 68» (Сухотин М. Датировка стихов Вс. Некрасова периода «Геркулеса». И некоторые замечания к вопросу о понятии качества для него в связи с этим // Друзья и приятели кролика: Сайт Александра Левина. http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOTIN/Statji/dat_nekrasov.html).
[Закрыть] откликнулся еще один лианозовский поэт, Всеволод Некрасов, в лирическом стихотворении с едва заметным политическим подтекстом.
Ночь
как загустевает
Человек
не успевает
так
как она загустевает
Я не успеваю
Августейшая
густейшая ночь
дач
ночь
дач
ночь
еще дач
Дайте вздохнуть
да еще
вздохнуть
дать
дать
дотянуть
дотянуть
дотянуть
хоть хоть
ну хоть
Вздохнуть
и хватит111111
Если не указано иначе, стихотворения Вс. Некрасова печатаются по: Некрасов Вс. Стихи 1956–1983 гг. / Подг. текста, аппарат М. Сухотина, Г. Зыковой, Е. Пенской. Вологда: Библиотека московского концептуализма Г. Титова, 2012.
[Закрыть]
Речь, как и у Сатуновского, о переломном моменте, об одной августовской ночи, лишающей человека надолго воздуха, но вовсе не из-за невыносимой летней жары. И то, как вдруг тяжело становится человеку дышать, ощутимо вследствие настойчивых повторов отдельных звуков, корней и целых слов, ощутимо это прямо физически.
Некрасов в своем творчестве отозвался и на более поздние события, непосредственно связанные с той «Августейшей / густейшей ночью». Свое предельно сжатое стихотворение он посвятил их жертве, Яну Палаху, студенту философского факультета Карлова университета, который 16 января 1969 года совершил самосожжение в знак протеста против оккупации, подавления свобод и бездействия общественности.
Ян
Палах
Я не Палах
Ты не Палах
А он
Палах?
А он
Палах
Он Палах
А ты
Не Палах
И я не Палах
Обходясь минимальным набором повторяющихся слов, Некрасов весьма отчетливо выражает скепсис по отношению к «я» и «ты», который вырастает из тех же корней, как и стыд у Яна Сатуновского. Речь не столько о том, что «мне», «тебе» невозможно идентифицироваться с Яном Палахом и его крайним поступком, сколько о том, что у «меня», у «тебя» не хватает смелости выразить протест. Остается только повторно, уже со смиренной интонацией, констатировать простой факт: «И я не Палах».
*
Все три названых поэта, Антонин Броусек, Ян Сатуновский и Всеволод Некрасов, объединены отнюдь не только темой оккупации Чехословакии. Наоборот, в некотором смысле она их скорее разъединила. Как минимум в реальном пространстве – Броусек в сентябре 1969 года, реагируя на растущее давление со стороны чехословацких властей, покинул Восточный блок, эмигрировав в Западную Германию112112
«Решение было сложным, – отвечал Броусек в 2004 году, вернувшись годом раньше окончательно в Чехию, – так как вначале ситуация не выглядела такой уж безнадежной. Первой манифестацией новых порядков для меня стали дни 20 и 21 августа 1969 года, когда чешские милиционеры ворвались в Прагу и влились в улицы, где стали вести себя как настоящие звери. Тогда я себе сказал, что меня здесь больше не будет» (Machonin J. «Lépe jsem se cítil v podzámčí»: Rozhovor Babylonu s básníkem, překladatelem a literárním kritikem Antonínem Brouskem // Babylon. 2005. № 5–6. S. 5. Здесь и далее перевод чешских материалов на русский язык мой. – А. М.).
[Закрыть]. Все три поэта связаны, прежде всего, знакомством, в результате которого в официальной чехословацкой периодике шестидесятых годов (до августа 1968 года) появилось несколько публикаций, посвященных Всеволоду Некрасову и «его кругу», только позднее получившему название «Лианозовская школа».
Впервые Антонин Броусек посетил Москву весной 1963 года. В интервью Яну Махонину, записанному зимой 2004 года для журнала «Бабылон» (Babylon) в пражской квартире Броусека, тот вспоминал, что с Всеволодом Некрасовым он лично встретился только в 1964 году113113
Однако первая публикация Некрасова в Чехословакии, подготовленная Броусеком, появилась уже в самом начале 1964 года, из чего следует, что встреча русского поэта с его чешским переводчиком должна была состояться раньше. Некрасов в своем хронологическом списке событий, связанных с Лианозовом, приводит уже 1962 год, что, со своей стороны, противоречит факту первой поездки Броусека в Москву в 1963 году. См.: Некрасов Вс. Моя лианозовская хроника // Некрасов Вс. Лианозово. М.: Век ХХ и мир, 1999. С. 72.
[Закрыть]:
Я попал к нему так, как я в Москве попадал ко всем чего-нибудь стоящим людям. То есть благодаря Виктору Некрасову, автору книги «В окопах Сталинграда», который был единственным человеком в Москве, лично ко мне расположенным. Это был замечательный человек, и он, как и много других замечательных русских, оказался в эмиграции. Когда в 1963 году я впервые собирался в Москву, Виктор Некрасов находился как раз в Париже и оставил для меня на столе адреса всех своих друзей, и с этого момента все и началось. Именно тогда мое внимание впервые обратили на существование Всеволода Некрасова, с которым я впервые встретился в следующем году114114
Machonin J. 2005. S. 5.
[Закрыть].
Теми, кто обратил внимание Броусека на однофамильца Виктора Некрасова, были друзья романиста, киносценарист Семен Лунгин и его жена, переводчица Лилиана Лунгина, частые гости воскресных выставок в Лианозове. Об этом, собственно, упоминает и Всеволод Некрасов, относя, однако, это событие уже к 1962 году и добавляя к возможным посредникам их знакомства с Броусеком имя филолога Леонида Пинского: «62. Лунгины (и Пинский, если не ошибаюсь) показывают мои стихи чешскому поэту Антонину Броусеку. Знакомлюсь с Броусеком; рекомендую ему стихи Холина, Сапгира, Сатуновского»115115
Некрасов Вс. 1999. С. 72.
[Закрыть]. Свое впечатление от знакомства со стихами Всеволода Некрасова Броусек, почти сорок лет спустя, описывал с сохранившимся восхищением:
Его экспериментальная поэзия меня поразила, потому что до этого мои представления ограничивались такими обычными клише, согласно которым самими интересными из новейших авторов являются Евтушенко и Вознесенский, и помимо них там <в советской литературе. – А. М.> ничего больше не происходит116116
Machonin J. 2005. S. 5.
[Закрыть].
И, продолжая, Броусек подтверждал слова Некрасова о том, что тот ему представил и других лианозовских поэтов:
Благодаря Всеволоду Некрасову я вдруг увидел, что там происходит что-то совершенно другое, и этим я полностью загорелся. Для меня открылся абсолютно новый взгляд на русскую литературу. Авторы, с которыми я познакомился и о которых позже заговорили как о лианозовской школе (Игорь Холин, Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов и т. д.), сознательно продолжали работу авторов двадцатых годов117117
Там же.
[Закрыть].
В итоге этого знакомства Броусека с литературой, которая оказалась для него на удивление «другой», появилась первая чехословацкая публикация стихов Всеволода Некрасова, в заметке к которой перечислялись и другие лианозовские авторы, в основном художники, и один поэт с искаженной фамилией – Хулин, т. е. Игорь Холин. Эту публикацию в своей лианозовской хронике отмечает также Некрасов, слегка искажая написание чешского названия журнала: «64. Броусек печатает мои стихи (переводы) в № 1 „Tvaz“ <…> („Лицо“) с предисловием, где аккуратно всех нас перечисляет»118118
Некрасов Вс. 1999. С. 72.
[Закрыть].

Обложка журнала «Тварж» (ЧССР)

Журнал «Тварж» (ЧССР), переводы А. Броусека
Итак, 25 января 1964 года, в первом номере только что основанного журнала «Тварж» (Tvář)119119
Художественный и общественно-критический ежемесячник Союза чехословацких писателей «Тварж» выпускало издательство «Чехословацкий писатель» тиражом 5000 экземпляров. В 1965 году журналу пришлось прекратить свое существование из-за нежелания членов редакции идти на компромиссы и соглашаться с требованием изменить свой состав. Журнал был возобновлен в 1968 году и просуществовал до 1969 года, когда был закрыт в связи с начавшейся «нормализацией». В течение 1964 года Броусек являлся членом редакционного круга журнала.
[Закрыть] было напечатано пять стихотворений Всеволода Некрасова в переводе Антонина Броусека. Об обстоятельствах появления этой небольшой подборки Броусек позже вспоминал:
Когда я вернулся в Прагу, я серьезно взялся за дело, потому что в Праге тогда было проще добраться до источников, чем в самом Советском Союзе. И как раз в той атмосфере, когда рождался журнал «Тварж», я был переполнен этим, и я везде говорил: «Именно это она, настоящая русская литература, которой мы должны заниматься»120120
Ср. в этой связи слова Некрасова относительно «другого» искусства в его статье 1993 года, впоследствии названной «Андерграунд»: «Действительно, какой еще „Андерграунд“. Откуда это? При чем тут английский – где у англосаксов могло быть такое? Еще скажите „Контркультура“… Марихуана… Мы всего-то пытались быть нормкультурой – когда положена была культура исключительно соц. Спец. И настоящее название „андерграунда“ – „другого“, альтернативного, параллельного и пр. и т. п. искусства очень простое <…> – искусство без подлости. <…> И искусство без подлости – никак не „другое“ – нет, оно-то и есть настоящее, нормальное искусство». Некрасов Вс. Андерграунд // Журавлева А., Некрасов Вс. Пакет. М.: Меридиан, 1996. С. 361.
[Закрыть]. И тогда я подумал, раз Союз писателей так настаивает на том, чтобы мы печатали советских авторов, мы будем печатать именно таких121121
Machonin J. 2005. S. 5.
[Закрыть].
Всеволоду Некрасову и «его кругу» в новом журнале, который вскоре стал трибуной интеллектуалов, критически настроенных против правивших властей и отстаивающих, вопреки цензуре, право на неидеологическую литературу, был посвящен один разворот – две страницы квадратного формата, с черным квадратиком почти посередине первой из них. Вокруг этого слегка сдвинутого центра располагались три стихотворения, остальные два, контрастно оформленные (одно напечатано заметно увеличенными буквами, другое, наоборот, уменьшенными), размешались на второй странице, рядом с заметкой, озаглавленной «Uvedení do Vsevoloda Někrasova» («Введение в Всеволода Некрасова»). В ней Броусек знакомил чешских читателей с автором только что прочитанных ими стихов и представлял им как можно шире контекст его творчества. Начинал он издалека, с объяснения возможной путаницы в русских писателях, носивших фамилию Некрасов:
Это не опечатка, и они даже не родственники. У них всего лишь одинаковая фамилия. В подсознании у чешских читателей пока два Некрасова. И у Всеволода Некрасова есть что-то общее с обоими. Хотя с одним из них все-таки больше, так как Всеволод Некрасов принадлежит к людям, которых нам в сегодняшнем СССР трудно представить без Виктора Некрасова. С классическим Некрасовым, с тем, который стал народным, которого национализировали, Всеволода Некрасова, как ни странно, объединяют, прежде всего, жизненные условия и судьба122122
Brousek А. Uvedení do Vsevoloda Někrasova // Tvář. 1964. № 1. S. 39.
[Закрыть].
Выяснение того, кто есть кто из русских писателей Некрасовых, их сравнение будет повторяться и в последующих публикациях. Как будто их авторы, в том числе и Броусек, руководствовались тем, что, только начав от близкого, они смогут постепенно, выявляя отличия, переходить к более далекому, менее знакомому и, как написал Всеволод Некрасов в статье, посвященной переводу как таковому, «…заодно уж сотворить весь контекст, все, что за словами – иной язык, иную историю»123123
Некрасов Вс. О польской поэзии // Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 256.
[Закрыть].
Поэзию Всеволода Некрасова Броусек уже тогда в своем «Введении» охарактеризовал словом «неожиданная», и, отделяя ее от того, что чешским читателям более знакомо, он продолжал:
Это вдруг ни с того ни с сего что-то совсем другое, чем то, что мы знаем из творчества его поэтических сверстников. Не случайно по отношению к ним у Некрасова очень четко определенная позиция, нередко весьма критическая (Евтушенко). Эта позиция, однако, не вытекает из чувства неполноценности или из ревности к тому, что они пользуются известностью, успехом, возможностями, хотя он имеет едва прожиточный минимум. Эта четко определенная позиция по отношению к сверстникам является лишь частью четко определенной, аккуратной и нонконформистской, ответственной и требовательной позиции Некрасова по отношению к жизни, к людям, к самому себе124124
Brousek А. 1964. S. 39.
[Закрыть].
И хотя Броусек обращает внимание и на другие, формальные, стилевые отличия поэзии Некрасова от популярных поэтов-шестидесятников (с глубоким признанием и приятным удивлением он отмечает, например, преемственную связь поэзии Некрасова с поэзией Велимира Хлебникова), упор на этическую сторону жизненной позиции и творчества Некрасова остается для автора «Введения» самым главным. Подытоживая сказанное, Броусек о Некрасове пишет:
Его поэзия от остальных отличается всей своей структурой, качественно другим познаванием действительности. В нем, в общем, присутствует интеллект в своем чистом проявлении, а не в виде автоцензуры, корыстной спекуляции, честолюбивого волюнтаризма, как это часто встречается у многих коллег Некрасова125125
Там же.
[Закрыть].
В заключение своего «Введения» Броусек добавляет еще несколько слов о принципе, которым он руководствовался, составляя и переводя свою первую подборку из Некрасова:
Напечатанные стихи не являются подборкой в обычном, переводческом смысле слова. Хотя я естественно старался соблюсти пропорцию между отдельными слоями поэзии Некрасова, подборку я в итоге должен был поневоле подчинить своим слабым переводческим способностям. Несмотря на все мои страдальческие усилия сжимать и освобождать чешский язык, мне пока не удалось найти для многих стихов, заслуживающих перевода, удовлетворительную, параллельную форму126126
Brousek А. 1964. S. 39.
[Закрыть].
Сомнения Броусека по поводу его переводческих способностей, его опыта более чем уместны, так как эта публикация являлась своего рода премьерой не только для Некрасова (чешские переводы были его первыми опубликованными переводами), но, собственно, и для самого Броусека. В качестве переводчика он пока выступил только раз, переведя, совместно с поэтом Франтишеком Грубином, стихи для второго чешского издания детской повести Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД»127127
См. Bělych G., Pantělejev L. Republika Škid. Praha: Svět sovětů, 1963.
[Закрыть]. Заметим, что свои сомнения по поводу поэтического перевода в целом высказал позже и Некрасов128128
Подробнее об отношении Всеволода Некрасова к переводу см. в рецензии: Махонинова А. Рецензия на немецкое издание избранных произведений Вс. Некрасова. Мюнстер, 2017 // Филологические науки. 2018. № 4. С. 114–119.
[Закрыть], охарактеризовав его слегка пренебрежительным словосочетанием «поэзия понаслышке». В статье «О польской поэзии», написанной в 1976 году, он в этой связи утверждал: «Общее правило: перевод в принципе не может не признавать компромисс лучшего с хорошим. А поэзия именно в принципе – признавать такой компромисс никак не может и не должна. А когда поэзия его допускает, тут ей конец»129129
Некрасов Вс. 1996. С. 251.
[Закрыть]. Несмотря на свои скептические суждения о переводе поэзии, Некрасов был своим переводчикам за их работу, как минимум на личном уровне, вполне признателен130130
В самом начале статьи Некрасов оговаривается: «…боюсь как-то задеть людей, которым крепко обязан: Антонина Броусека, переводившего меня на чешский, и Лизл Уйвари – на немецкий. Но, надеюсь, они – и, разумеется, надеюсь, что не только они – поймут, о чем речь» (Некрасов Вс. 1996. С. 246).
[Закрыть].

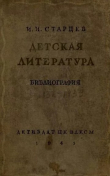




![Книга Краткий философский словарь [Издание второе, переработанное и дополненное] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kratkiy-filosofskiy-slovar-izdanie-vtoroe-pererabotannoe-i-dopolnennoe-266996.jpg)

