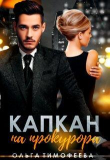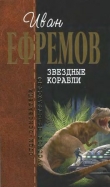Текст книги "К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №25 от 22.06.2010"
Автор книги: К барьеру! (запрещенная Дуэль)
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Закалюжный: «В 9-10 часов утра Яшин еще с Вами находился?»
Ефремов: «Да. Потом разбежались: он – на метро, я – в магазин».
Закалюжный: «Яшин ездил когда-либо в Чечню?»
Ефремов медленно кивает: «Да, ездил. Привозил материалы для журнала».
Закалюжный с сочувствием к больному: «Какими документами он пользовался для поездки? У него было журналистское удостоверение?»
Ефремов с трудом выговаривает: «Было, на имя Степанова».
Закалюжный: «Вы получали от Яшина фотоматериалы для журнала?»
Ефремов: «Да».
Адвокат Першин: «С какой целью выписываются журналистские удостоверения на псевдоним?»
Ефремов: «Это часто бывает, когда специалисту нельзя засвечиваться в том, что он работает как журналист».
Защита, жалея инвалида, отступает с вопросами, и в допрос тут же напористо вклинивается прокурор с заготовленной скептической усмешкой, которая должна означать обезоруживающее «не верю! ничему не верю!»: «В какой роли Яшин работал в Вашем журнале?».
Ефремов объясняет роль военного консультанта в журнале: «Он участник войны в Афганистане, военный человек. Я его и привел для освещения реального положения в армии».
Прокурор начинает потихоньку расставлять силки для ослабленного здоровьем свидетеля: «Контракт у Вас с ним был?».
Ефремов простодушно: «Нет, контракта не было. У нас такого не бывает. Приходите, приносите материал, если подходит – будет опубликован».
Прокурор с хитрецой: «У Яшина было журналистское образование?»
Ефремов с нарастающим усилием выговаривает: «Вот этого я не знаю».
Прокурор: «У Вас был журналистский псевдоним и удостоверение на вымышленную фамилию?»
Ефремов: «Псевдоним был – Сашин. Удостоверения не было, ведь я главный редактор журнала».
Прокурор: «Вы удостоверение Яшина видели?»
Ефремов: «В редакции он доставал какие-то бумаги. И я эти корочки видел».
Прокурор затевает игру с памятью больного старика: «Назовите дату, когда Вы с Яшиным находились дома?».
Ефремов: «Не могу сказать точно. Просто я сидел с ним, а потом узнал, что в это время было покушение».
Прокурор переворачивает вопрос с ног на голову: «А когда произошло покушение на Чубайса?».
Ефремов: «Вот не знаю абсолютно».
Прокурор ищет где бы зацепить свидетеля на противоречии: «А до того дня Яшин оставался у Вас ночевать?».
Ефремов уже порядком устал, бормочет с трудом: «Бывало. Приходил помочь, приносил что-то. Бытовые вопросы решал, меня ведь парализовало».
Прокурор безжалостно: «Когда в тот день Вас посещал Яшин, кто его еще видел?»
Ефремов в изнеможении: «Никто. Дети спали у себя в комнате».
Прокурор не отпускает его из цепких когтей допроса: «Можете уточнить время, когда к Вам Яшин приехал?».
Ефремов: «Вечером уже. Часа в 22».
Прокурор: «Утром его кто-нибудь видел?».
Ефремов тяжко вздыхает: «Думаю, нет. Дети в школу ушли».
Прокурор ядовито: «Когда же Яшин проснулся?».
Ефремов, приподняв здоровое плечо: «Может, часов в девять».
Прокурор буквально въедается в больного: «В котором часу Вы репортаж по телевизору видели?».
Ефремов вяло отбивается: «Часов в 11-12».
Прокурор не отстает: «Яшин у Вас дома был или уже ушел?»
Ефремов почти на издыхании: «Точно не помню».
Прокурор: «Вы с Яшиным после этого еще встречались?»
Ефремов: «Нет, до ареста не встречались».
Эстафету допроса тут же подхватывает молоденькая подручная прокурора Колоскова, в голосе которой скептицизм вибрирует мелодичными, но жестокими нотами: «Для чего к Вам Яшин в тот день приходил?».
Ефремов бесхитростно: «Он достал деньги для журнала».
Колоскова испытующе: «Вы воспользовались этими деньгами?»
Ефремов: «Да, они пошли на выпуск журнала к Дню Победы – это было пять или семь тысяч рублей».
Колоскова ускоряет темп допроса: «Яшин в тот вечер много выпил?»
У Ефремова впервые на лице что-то вроде улыбки: «Да как Вам сказать – по граммам или в каком состоянии он был? Нормально выпил».
Колоскова не сбавляет темпа: «Яшин всегда носил бороду?»
Хорошо заметно, что Ефремову невмочь уже стоять у трибуны: «Нет, не всегда. Тогда у меня он был без бороды».
Колоскова: «В тот вечер он почему остался ночевать?»
Ефремов: «Поздно было и нетрезв. Метро уже не ходило».
Экзекуцию допроса продолжил Шугаев: «Что-то непонятное. Вы сказали, что выпили бутылку коньяка, почему же тогда Яшин был так пьян? Он что, падал у Вас на глазах? Он что, не мог добраться домой?».
Ефремов помолчал, не без уважения оценивая тучную комплекцию чубайсовского адвоката, которого и две бутылки не свалят с ног. С Яшиным по количеству алкоголя на килограмм веса не сравнить: «Видимо, не мог».
Шугаев, как опытный допросчик, резко меняет тему, чтобы застать свидетеля врасплох: «В чем Яшин был одет?».
Ефремов даже пытается усмехнуться: «Я не помню во что я был одет».
Шугаев: «Яшин состоял в каких-либо экстремистских организациях?»
Ефремов озадаченно: «Не знаю».
Шугаев: «Как Яшин относился к лицам других национальностей, например, к евреям?»
Ефремов таращит глаза: «Не знаю».
Шугаев: «А к Чубайсу он как относился?»
Ефремов: «Никак не относился, мы это не обсуждали».
Интересно, если бы Ефремов признался Шугаеву, что Яшин очень уважал Чубайса, может даже любил его, привело бы это подсудимого по просьбе адвоката Шугаева к оправдательному вердикту? А если бы свидетель убедил Шугаева, что Яшин терпеть не мог Чубайса, это мнение стало бы для подсудимого роковым?
Шугаев: «Почему Вы, обладатель такой важной информации, не явились к следователю и не рассказали обо всем?»
Ефремов беспомощно двинул ногой: «Я и хожу-то лишь по квартире да вокруг дома».
Адвокат Чубайса Коток поспешил выступить заботником о здоровье свидетеля, как добрый следователь после злого: «Вы были в таком тяжелом состоянии, и это позволило-таки выпивать Вам с Яшиным?».
Ефремов кивнул: «Мне врачи разрешили по 70 грамм во второй половине дня».
Стало понятным, почему Яшин не смог в тот вечер добраться до дома. Принял без малого поллитра коньяка, принял на свое счастье, иначе ночевал бы у себя дома и не было бы у него никакого алиби, ведь жены обвиняемых, как свидетели, прокурорами и судьями вообще в расчёт не берутся.
Промучив разбитого инсультом беднягу битых два часа, обвинение потребовало огласить показания свидетеля, данные им на суде два года назад. Пошёл третий час пытки.
В оглашенных показаниях, по сравнению с только что услышанным, новым оказалось лишь одно: живая жена Ефремова. Прокурор не замедлил уличить: «Вы говорили прежде, что Вашей жены не было дома, что она ушла. Теперь говорите, что она умерла».
Ефремов растерялся, губы его жалко задергались, подбородок задрожал, он едва сдерживал рыдание: «Да как же так! Жена у меня умерла в 2002-м году. Кто ж такое записал, что я с женой и жена куда-то ушла. Куда ушла?! Ведь навсегда ушла! Да как же это так!».
Ясно представилось, как пишутся протоколы судебных заседаний, сокращая важные места, передергивая ключевые фразы, чтобы потом такие вот «обрезанные» протоколы решали судьбу подсудимых.
Едва живого инвалида приставы сопроводили до дверей. Зал с облегчением вздохнул, в течение всего допроса не покидало ощущение, что человека доканывают прямо на наших глазах.
Освободившееся свидетельское место занял Александр Сергеевич Чубаров, сослуживец подсудимого Квачкова. В военной форме генерала, подтянутый и строгий.
Начал допрос адвокат Квачкова Першин: «Вы были 17 марта 2005 года на месте происшествия?»
Чубаров уточняет: «Я был там не 17-го, а 18-го марта».
Першин: «Правильно ли было выбрано место засады с точки зрения военной науки?»
Судья тут же включает изрядно поднадоевшую заезженную ею пластинку: «Вопрос снимается, так как не относится к фактическим обстоятельствам дела».
Першин: «Вы видели воронку?»
Чубаров: «Видел. Это не воронка, это выщербина глубиной в две-три ладошки. Она находилась в стороне от полотна дороги в канаве. За откосом три сосны, на которых были повреждения раздробленным грунтом».
Першин: «Правильно ли было установлено взрывное устройство?»
Чубаров категорически: «Нет. Об этом не может быть и речи».
Выслушав ответ, судья не пускает его в протокол: «Я вопрос снимаю, так как он не относится к фактическим обстоятельствам дела. Мы мнения людей о происшествии не выясняем».
Першин: «Как давно Вы знакомы с Квачковым?»
Чубаров: «С 1971 года».
Першин: «Способен ли Квачков поразить цель из стрелкового оружия на расстоянии 25 метров?»
Чубаров: «С расстояния 25 метров цель способен поразить любой солдат спецназа второго года службы».
Першин: «Каковы были навыки Квачкова в разработке спецопераций?»
Чубаров: «Он был инструктором по минно-подрывному делу».
Першин неожиданно задает генералу излюбленный вопрос обвинения: «Квачков высказывал экстремистские взгляды?».
Чубаров даже не задумавшись: «Не слышал от него ни в какой трактовке».
Першин: «Он высказывался в отношении Чубайса?»
Чубаров уверенно: «Нет».
Першин спрашивает генерала спецназа: «Как Вы определяете мощность взрыва на основании воронки?».
Прокурор вдруг громко протестует: «Ваша честь, Чубаров не обладает специальными познаниями!».
Судья послушно снимает вопрос, хотя генерал Чубаров – выпускник академического разведфакультета, за плечами которого громадный опыт диверсионной работы, – как раз и обладает глубокими специальными познаниями во взрывном деле.
Першин: «18 марта на месте взрыва Вы видели какие-либо болты, гайки, шарики?»
Чубаров убежденно: «Нет, не видел».
Прокурор: «Вы – действующий офицер?»
Чубаров: «С 2004 года в отставке».
Прокурор уточняет: «Имеете ли Вы отношение к войскам специального назначения и к войскам, занимающимся подрывным делом?».
Чубаров: «Да, я проходил службу в частях спецназа. Окончил Академию, разведывательный факультет».
Прокурор: «В какой период времени Квачков проходил службу в Таджикистане?»
Чубаров: «Он не проходил там службу. Он был откомандирован в Таджикистан в 1992-1993 годах».
Прокурор: «После службы Квачков не утратил своих профессиональных навыков?».
Чубаров философски: «Думаю, что всё потихоньку утрачивается».
Прокурор: «18 марта 2005 года в честь чего Вы на месте происшествия оказались?»
Чубаров: «Мне позвонили с телевидения, с НТВ, попросили прокомментировать происшествие на месте, прислали машину. Я там все внимательно осмотрел, схему нарисовал, в общем, выступал как эксперт».
Прокурор: «В лес входили?»
Чубаров обстоятельно: «Да. Метров сто по снегу этому протопал, нашел тропу, по которой трактор вывозил несколько бревен, но места стрельбы не нашел».
Прокурор: «Вы обладаете навыками организации засад?».
Чубаров: «Да, обладаю».
Прокурор: «Вам приходилось уничтожать движущиеся объекты?»
Чубаров чуть помедлив: «Мы их уничтожали другим способом».
Прокурор не стал дальше испытывать судьбу, но не успел посоветовать не делать это другим, в допрос уже бесцеремонно встрял, как всовываются в захлопывающуюся дверь, адвокат Чубайса Шугаев: «18 марта 2005 года Вы были на месте происшествия в трезвом состоянии?».
Чубаров с генеральской высоты обозрел высунувшегося хамовитого адвоката: «Да».
Шугаев попытался в отместку уесть генерала: «Как Вы объясните в таком случае (в случае трезвости? – Л К.), что взрывом был перебит стальной трос линии электропередачи на высоте нескольких метров?»
Чубаров невозмутимо, но категорично: «Я не представляю себе подобной ситуации».
Шугаев замурлыкал любимый им мотивчик: «Состоял ли Квачков в каких-либо националистических или экстремистских организациях?»
Чубаров: «Мне это не известно».
Шугаев: «Все засады, которые Вы организовывали, заканчивались успешно?»
Чубаров пристально смотрит на него и мягко-мягко, добродушно, чуть усмехнувшись в пышные усы: «Как правило».
Шугаев спешно ретируется на болезненно застонавший под ним стул.
Судья подбирает вожжи допроса в свои руки: «После увольнения из армии Квачков не привлекался к организации спецопераций?».
Чубаров: «Привлекался. Полковник Квачков организовывал специальные действия по обнаружению бандформирований. Это он рекомендовал спецминирование, в ходе которого Басаев потерял ногу».
Адвокат Першин: «Каков был тротиловый эквивалент взорванного вещества?»
Чубаров: «В пределах 350-500 граммов тротила. Две стандартные тротиловые шашки».
Першин: «Для успешного действия где должно было быть установлено взрывное устройство?»
Генерал-свидетель начал было: «Под полотном дороги…», да только профессиональное спецназовское берёт верх и командирский его гулкий голос ударил по залу колоколом: «Да не нужно было там ничего подрывать! Из гранатометов надо бить!».
Першин продолжает получать инструкции: «Нужен ли аккумулятор для подрыва?»
Чубаров брезгливо отмахивается от аккумулятора: «Да не нужен!».
Першин подходит к наиважнейшему в деле: «Вы видели автомобиль Чубайса?»
Генерал признает: «По телевизору показали капот».
Першин просит объяснить: «Что это за повреждения?»
Чубаров убеждённо: «Если машина в движении, такую ровную строчку пробить невозможно».
Судья, заслушавшаяся было консультаций бывалого военспеца, спохватывается и снимает вопрос: «Предположения доказательствами в суде не признаются».
Подсудимый Миронов: «Мог ли человек без специальной подготовки участвовать в спецоперации?».
Вопрос снимается.
Миронов настойчив: «Сколько времени занимает огневая подготовка участника спецоперации?»
Чубаров чётко: «Огневая подготовка занимает четверть времени боевой подготовки офицера и солдата».
Миронов развивает тему: «Не специалист может участвовать в таких акциях?»
Судья моментально снимает вопрос. Генерал успевает лишь отрицательно мотнуть головой.
Прокурор уточняет услышанное: «Как и при каких обстоятельствах Квачков привлекался к разработке операций в Чечне?»
Чубаров: «Это решение начальника Генерального штаба».
Шугаев ядовито: «В экспертизе воронка диаметром в несколько метров и мощность взрыва от 3,5 до 11 килограммов тротила. Почему Вы даете здесь другие данные?».
Чубаров уверенно гудит: «11 килограммов тротила – это и полотну дороги мало бы не показалось. Я знаю, какие ямы это дело оставляет».
Шугаев шуршит: «Есть разные методики, которые определяют силу взрыва или действие ударной волны. Вы какой пользовались?»
Чубаров учит адвоката своему ремеслу: «У нас такая методика: рельс – это двухсотграммовая шашка. Локомотив – другой объем, гораздо больший. Есть стандартные решения, по которым специалист ставит заряд дальний, а все остальное после подрыва сметают гранатометами». Он выразительно смотрит на защитника Чубайса, видимо, сравнивая его с локомотивом.
Шугаев продолжает суетливо шуршать бумагами: «У нас есть экспертиза, где баротравма определяется в радиусе 60 метров. У вас какие методики?».
Чубаров, как учитель, спокойно и весомо: «По своим воспоминаниям оцениваю. Я этих зарядов сотни взорвал».
Шугаев мгновенно, как слон в мышку, перевоплощается в старательного ученика: «Мелкодисперсный алюминий – это серьезное взрывчатое вещество?».
Чубаров морщится: «Это вещество берется, чтобы создать серьезный очаг пожара. Не думаю, чтобы там это было нужно».
У подсудимого Найденова профессиональные вопросы: «Мина КЗД-10 – кумулятивный заряд?».
Чубаров: «Да».
Найденов: «Позволяли ли условия местности пользоваться подобным зарядом?»
Чубаров: «Я бы вообще не стал делать там засаду. На прямом скоростном участке делать засаду нецелесообразно».
Судья как опомнилась. Увлекшись экспертными оценками генерала, она упустила из виду опасность задаваемых вопросов. Вопрос, разумеется, снимает.
Найденов: «Как Вы думаете, если бы там было сто лежаков, а не шесть-семь, означало бы, что на этом месте работала рота?»
Судья вновь снимает вопрос и напряжённо слушает следующий.
Найденов: «Выложенный на лежаке магазин с патронами мог означать отвлекающий маневр для поиска автомата?»
Судья вновь не позволяет генералу ответить.
Найденов: «Как Вы можете объяснить, что при данной частоте леса в деревьях не оказалось ни одного пулевого отверстия?»
Судья и здесь не захотела слушать ответ генерала, а задала свой вопрос: «Известно ли Вам, где находится сын Квачкова и почему он не изъявил желания дать показания по делу?»
Чубаров: «Не могу сказать».
Подсудимый Миронов поддержал судью: «Он живой или неживой – не знаете?»
Чубаров вздыхает: «Мне это неизвестно».
Последний вопрос, который принадлежал подсудимому Миронову, «Как Вы можете оценить: это диверсионная операция или имитация покушения?» судья торжественно сняла, видимо, заранее предугадав ответ опытного боевого генерала.
Любовь КРАСНОКУТСКАЯ
Информагентство СЛАВИА
ИСТОРИЯ
АНТАНТА. ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО СОГЛАСИЯ

Франкфуртский мир и его последствия
В июле 1870 года Франция, с большим энтузиазмом поддавшись на сфабрикованную Бисмарком провокацию, объявила Пруссии войну. Так началась казалось бы совершенно рядовая для того времени война, которой, однако, было суждено на протяжении семи десятилетий играть колоссальную роль не только в европейской, но и во всемирной истории и итоги которой во многом предопределили две мировые войны, унесшие жизни более ста миллионов людей.
Как известно, война – это ничто иное, как продолжение политики иными средствами, поэтому для ее успешного завершения важно не только выиграть у противника на полях сражений, но и заключить такой мир, который бы исключил возможность повторения новой войны. Достичь это можно двумя существенно различными путями. Либо путем радикального ослабления противника с помощью дробления его территории на ряд мелких и зависимых от победителя государств, а также аннексии значительной части его территории. Либо путем подписания мира на справедливых и взаимоприемлемых условиях.
Однако победившая в этой войне Пруссия в то время еще не была настолько сильна и не могла радикально ослабить Францию. Прежде всего этого не допустили бы другие великие державы. Но и подписывать справедливый мир, при котором исчезли бы причины для возникновения новых военных конфликтов между двумя державами Берлин тоже не желал. В этой ситуации канцлер Бисмарк, определявший внешнюю политику Пруссии, добился подписания такого мира, который не ликвидировал вековой антагонизм между двумя державами, а уже изначально был направлен на продолжение войны и дальнейший военный разгром Франции.
В результате 10 мая 1871 года был подписан Франкфуртский мирный договор, по которому Франция уступила Германии большую часть Эльзаса и примерно две трети Лотарингии и обязывалась уплатить 5 миллиардов контрибуции. Так намеренно была создана ситуация, при которой становилось очевидным, что французы никогда не смирятся с потерей двух своих провинций. Однако новая граница была проведена таким образом, что все стратегически важные пункты переходили на сторону Германии, а Франция становилась беззащитной перед угрозой уже планировавшейся очередной немецкой агрессии.
Таким образом, уже изначально немцы сознательно провоцировали французов на войну, которую те наверняка должны были бы проиграть. В этой связи вскоре после подписания Франкфуртского мира Бисмарк говорил французскому дипломату:
«С нашей стороны было бы абсурдом брать у вас Мец, который является французским. Я не хотел оставлять его за Германией. Но генеральный штаб запросил меня, могу ли я гарантировать, что Франция не станет брать реванш. Я ответил, что, напротив, я вполне убежден, что эта война является лишь первой из тех, которые разразятся между Германией и Францией, и что за ней последует целый ряд других.
Мне ответили, что в таком случае Мец явится гласисом, за которым Франция может разместить сто тысяч человек. Мы должны были его сохранить. То же самое я скажу и об Эльзасе с Лотарингией: брать их у вас было бы ошибкой, если бы миру суждено было быть прочным, так как эти провинции являются для нас обузой».
Победоносную войну с Францией прусские власти использовали для завершения объединения Германии вокруг Пруссии. В этой связи в январе 1871 года немецкие князья провозгласили в Версале прусского короля Вильгельма I германским императором, а Бисмарк при этом получил пост канцлера Германии.
Франко-прусская война завершила целый ряд глубоких перемен в политическом устройстве Европы. Стало реальностью национальное объединение Германии, хотя и без немецких областей Австрии. Интересно, что против включения австрийских немцев в единую Германию выступала именно Пруссия, поскольку такое объединение привело бы к преобладанию во Втором рейхе католиков.
Объединение Германии на национальной основе, борьба с католичеством и враждебное окружение страны породили немецкую национальную идею, вскоре ставшую основой для развития крайних форм национализма вначале в форме пангерманизма, а после поражения в Первой моровой войне – в форме нацизма.
Фундаментом немецкого национализма стала идея обделенности немцев колониями и территорией, необходимой для их нормального проживания в Европе. Так, под флагом исправления исторической ошибки, и зародились планы создания Серединной империи, а также территориальной экспансии и завоевания жизненного пространства. Причем эта национальная идея стала стержневой не только для деятельности национал-экстремистов, но основой политики властей Второго и Третьего рейха, что и привело мир к двум кровопролитным мировым войнам.
Здесь нужно отметить принципиальное различие между пангерманизмом и панславинизмом, сформировавшихся к концу девятнадцатого столетия. Если Германия к этому времени уже несколько десятилетий являлась единым национальным государством и пангерманисты ратовали за завоевание новых земель будучи по своей сути агрессорами, то значительная часть славян все еще оставалась под властью иностранных государств, поэтому панслависты вели справедливую борьбу за национальное освобождение родственных им народов из-под османского ига и австрийского владычества.
Тем временем завершался так же и процесс объединение Италии. И если раньше восточными соседями Франции были слабые мелкие государства, а западным соседом России являлась сравнительно небольшая Пруссия, к тому же поглощенная непрерывным соперничеством с Австрией, то теперь у границ России и Франции возникла мощная держава – Германская империя. Соответственно изменилось и отношение Петербурга к Берлину. Если во время войны 1870-71 годов немцы здесь встречали поддержку и одобрение, то первая же попытка Бисмарка продолжить разгром Франции встретила осуждение и противодействие со стороны Александра II.
А случилось это так. Как заранее можно было ожидать, повод для войны Берлину дали реваншистские настроения значительной части французов. В августе 1873 года епископ города Нанси выступил с пастырским посланием, призвав верующих молиться за возвращение Эльзаса и Лотарингии в лоно Франции. А в епархию епископа Нанси входила вся Лотарингия, включая и ее отошедшую к Германии часть. Поэтому послание епископа было прочитано с церковных кафедр и опубликовано в католической печати в том числе и на немецкой территории. Бисмарк использовал этот факт для разжигания взрывоопасной ситуации и потребовал от Парижа репрессий против церковного иерарха.
Со своей стороны, в связи с выступлением нансийского епископа немецкая пресса открыла яростную кампанию, обвиняя Францию в подготовке войны и требуя от германского правительства принятия срочных ответных мер. Надо сказать, что с военной точки зрения война с Францией в 1873 году была бы несомненно выгодна для немцев, поскольку на их стороне к этому времени был ещё больший перевес в силах, чем в 1870 году.
Париж почуял опасность новой военной катастрофы и срочно обратился за помощью к Австрии и России. Французский демарш как раз совпал с визитом Франца-Иосифа в Петербург, куда император прибыл 13 февраля 1874 года в сопровождении графа Андраши. Здесь, в русской столице, Горчаков и Андраши предприняли совместную демонстрацию в пользу Франции. Они вместе посетили французского посла и заверили его, что осуждают действия Берлина. Бисмарку пришлось ретироваться. И уже 17 февраля он дал распоряжение приостановить дальнейшее развитие конфликта.
После этого Германия еще дважды в 1875 и 1887 годах предпринимала попытки развязать войну с Францией. Тем не менее, усилиями России и Англии эти так называемые военные тревоги были сорваны.
Заключение австро-германского договора 1879 года
Тем временем завершилась русско-турецкая война 1877-78 годов, как в ходе которой, так и после ее окончания Бисмарк на Берлинском конгрессе, занял антирусскую позицию, явно поддерживая австрийские притязания. В результате русско-германские отношения очень быстро испортились, и уже с конца 1878 года между Германией и Россией началась конфронтация – сначала газетная, а потом таможенная.
Если газетную перепалку можно было не принимать всерьез, то таможенная война сразу возымела нешуточные последствия, поскольку Германия к тому времени представляла собой важнейший рынок для сбыта сырья из России, поглощая более трети русского экспорта. Между тем мировой аграрный кризис семидесятых годов сильно обострил борьбу за рынки сбыта продовольственных и сырьевых продуктов. В условиях кризиса германское юнкерство требовало оградить его от иностранной конкуренции. В результате Бисмарк с января 1879 года установил почти полный запрет на ввоз русского скота и поднял таможенные пошлины на хлеб, сильно ударившие по интересам России.
В ответ на это российские промышленники добились от своего правительства взимания повышенных пошлин с немецких промышленных товаров. В результате отношения между Россией и Германией сильно обострились. В этой связи, в августе 1878 года Бисмарк пишет кайзеру Вильгельму докладную записку, в которой утверждает, что якобы Россия после Берлинского конгресса заняла в отношении Германии угрожающую позицию.
На самом деле это не соответствовало действительности, поскольку ухудшение отношений между двумя империями было намеренно спровоцировано самим Берлином, при этом никакой военной угрозы Второму рейху со стороны Петербурга не существовало. Другое дело, что незадолго до этого Россия, не желая допустить нового разгрома Франции, очередной раз расстроила агрессивные устремления Германии.
Впрочем, не существовало реальной угрозы Германии и со стороны Запада. Ведь хотя в Париже много и шумно писалось и говорилось о необходимости возврата Эльзаса и Лотарингии, тем не менее, далее реваншистской болтовни дело не шло, а главное, и не могло пойти. Просто Франция была слабее Германии, и в одиночку у нее не было никаких шансов выиграть у немцев войну. Однако Россия явно не собиралась потворствовать французскому реваншу, а своих причин для войны с империей Вильгельма I у Александра II просто не было. Поэтому в треугольнике Франция, Германия, Россия наступило равновесие, которое гарантировало длительное мирное развитие событий.
Тем не менее, именно это и не устраивало нарождающуюся в Берлине партию агрессивных немецких националистов, считавших, что Второй рейх был сильно обделен как коренными землями, так и колониями, которые можно было захватить лишь силой оружия. Поэтому выход из заколдованного круга им виделся в создании союза с Австро-Венгрией, направленного на военный разгром как России, так и Франции. И хотя против создания такого союза выступил Вильгельм I, считавший, что Германии нечего делить с Россией, тем не менее, Бисмарку под угрозой отставки всего кабинета Совета министров, в конце концов удалось сломить сопротивление стареющего императора. В результате 7 октября 1879 года был заключен договор, первая статья которого гласила:
«В случае, если бы одна из обеих империй, вопреки надеждам и искреннему желанию обеих высоких договаривающихся сторон, подверглась нападению со стороны России, обе высокие договаривающиеся стороны обязаны выступить на помощь друг другу со всею совокупностью вооруженных сил своих империй и соответственно с этим не заключать мира иначе, как только сообща и по обоюдному согласию».
На первый взгляд может показаться, что австро-германский союз носил чисто оборонительный характер, но это, тем не менее, не соответствует действительному положению вещей. Ведь в обозримом будущем угроза войны Германии со стороны Петербурга могла возникнуть только в случае, если бы Россия вступилась за Францию, в свою очередь подвергшуюся немецкой агрессии. Причем именно в этом случае, в соответствии с буквой соглашения, Австрия и была бы обязана объявить войну России. Таким образом, Берлин, планируя агрессию против Франции, с помощью австро-германского военного соглашения просто собирался обезопасить свои восточные тылы. Поэтому едва ли можно было назвать создаваемый союз оборонительным.
Кроме того, инициатива заключения австро-германского соглашения исходила не от Вены, а из Берлина, однако если бы в основе мотивации действий Бисмарка лежала лишь его забота о благополучии царствующей династии Габсбургов, которой на Балканах угрожали коварные козни русского царя, то Берлину гораздо эффективней было бы просто предупредить Петербург, что Германия не останется нейтральной в случае возникновения русско-австрийской войны. Поэтому, при таком раскладе, австро-германское соглашение было бы просто излишним.
В создавшейся атмосфере взаимной конфронтации Александр III в 1887 году отказался продлить участие России в «Союзе трех императоров». Естественно, русско-германские отношения после этого стали еще хуже, тем не менее, полный разрыв отношений пока что не был выгоден ни той, ни другой стороне. Поэтому Петербург и Берлин старались не доводить дело до крайнего предела. В результате стороны договорились заключить двусторонний договор о нейтралитете. Этот договор, получивший название договора перестраховки, являлся одним из самых хитроумных изобретений в истории дипломатии. Интригующей была даже обстановка, в которой он был выработан.
Переговоры начались 11 мая 1887 года между Бисмарком и русским послом в Берлине Павлом Шуваловым. Канцлер уже в начале переговоров сделал весьма необычный ход, предъявив своему визави текст секретного договора между Германией и Австро-Венгрией. После чего Бисмарк, не дав Шувалову опомниться, стал чуть ли не со слезами на глазах горько “сожалеть” о том, что тогда, в 1879 году, обстановка вынудила его заключить такой союз и что теперь он связан им, а потому предлагает из будущего русско-германского договора о нейтралитете исключить один-единственный случай, а именно нападение России на Австро-Венгрию.
Шувалов, однако, быстро отреагировал на этот ход противника и со своей стороны тоже предложил “малюсенькую” оговорочку – исключить из договора и случай нападения Германии на Францию. Так домашняя заготовка канцлера была успешно парирована русским дипломатом, после чего как Бисмарк ни хлопотал вокруг русского посла, тот упрямо стоял на своем. В результате соперники сошлись на весьма затейливой редакции: Германия гарантирует России нейтралитет в случае, если Австро-Венгрия первая нападет на Россию, а Петербург гарантирует свой нейтралитет Берлину, если Франция первой нападет на Германию. Таким образом, Бисмарк получал шанс на войну с Францией без вмешательства России – при условии, если бы ему удалось, как это уже и было в 1870 году, еще раз спровоцировать Францию напасть первой. Впрочем, надежды на это были весьма эфемерны, а поэтому и договор перестраховки имел смысл только как пакт о ненападении.