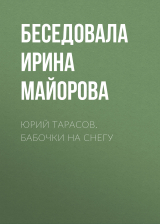
Текст книги "ЮРИЙ ТАРАСОВ. БАБОЧКИ НА СНЕГУ"
Автор книги: Беседовала Ирина Майорова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
ЮРИЙ ТАРАСОВ. БАБОЧКИ НА СНЕГУ

Честно говоря, устал от ограниченности выбора: или весельчак с присвистом, или бешеная белка, или злобный карлик. Конечно, не ощущаю себя двухметровым красавцемблондином с пронзительно голубыми глазами, но внутри я все-таки герой.
–До шести лет я жил с родителями на Камчатке, и в детскую память навсегда впечаталась картина: ослепительно белые трехметровые сугробы, а на них – десятки махаонов! Семьи офицеров-подводников квартировали в четырехэтажных панельных домах с плоскими крышами, покрытыми рубероидом, который с приходом первого весеннего тепла быстро нагревался. Бабочки, решив, что наступило лето, вылуплялись из куколок и садились на снег. Этой волшебной картинке я, возможно, и обязан тем, что до сих пор категорией «чудо» меряю все: людей, профессию, себя. Мне необходимо удивляться, не понимать, как это сделано и как такое вообще может быть. Память – интересный механизм: стоит выдернуть из нее один яркий образ, тут же в очередь выстраиваются другие. Вот я, тринадцатилетний питерский школьник, вместе с друзьями из пластического театра-студии «Форте» танцую у Сакре-Кёр. В столице Франции режиссер Юрий Мамин снимает часть эпизодов фильма «Окно в Париж», где мне досталась роль мальчишки-оратора, предводителя бунтующих учеников. Шесть утра. Парижские светофоры моют с шампунем, и со всех перекрестков текут пенные, с цветочным запахом ручьи. Мимо нас, выделывающих немыслимые па, с ленивым достоинством прогуливаются холеные раскормленные голуби…
Следующий кадр: уже студентом ЛГИТМиКа вместе с четырьмя однокурсниками глухой ночью лезу через ограду Летнего сада. Нам кажется очень романтичным, устроившись на скамейке, выпить водки —одна бутылка на пятерых – и поговорить о творчестве. Не успеваем приземлиться, как темноту прорезает луч фонаря. Сердце падает: «Попались! Сейчас загремим в милицию…» Уже были показаны три сезона «Оперов», где я сыграл самого молодого сотрудника убойного отдела Ивана Соратника, когда на отдыхе в Турции ко мне подкатывает быкообразный товарищ – весь в наколках и в сильном подпитии: – Слушай, а я тебя знаю. Отвечаю со скромной улыбкой, но не без внутренней гордости: – Ну да, наверное… – Это не ты меня сажал? У «быка» каменеет лицо, а моя душа уходит в пятки: «Сейчас огребу… Причем капитально». По счастью, к бывшему сидель цу подбегает приятель: «Нет!!! Ты попутал! Это артист!» – и уводит кореша от греха подальше. – Юрий, вы прекрасный рассказчик – будто вживую увидела описанные вами эпизоды. Не было мысли попробовать себя на писательском поприще? Впрочем, творческие перспективы предлагаю обсудить позже, а сейчас – к началу вашей биографии. Итак, вы родились в Санкт-Петербурге… – Тогда еще – Ленинграде. Подробности знакомства родителей мне неизвестны: несмотря на доверительные отношения, некоторых вопросов мы друг другу не задавали. Знаю только, что встретились они на Невском: отец, в ту пору курсант Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского, неотразимый в клешах и бескозырке, и учившаяся на архитектора мама – юная, красивая, изящная петербурженка с синими, как небо, глазами… Во всяком случае мне хотелось бы, чтобы их знакомство выглядело именно так. Папа родился на Урале, его и сестру моя бабушка растила одна. Видя, как тяжело матери, и стремясь поскорее слезть с ее шеи, после окончания школы Герман Тарасов поступил в военное училище – там обеспечивали кровом, едой и формой. При другой жизни, где имелся бы выбор, отец мог стать блистательным актером. Если говорить о задатках, он одареннее меня – в артистическом, музыкальном плане. Имея прекрасный слух, школьником играл на бас-гитаре, потом освоил фортепиано. Голос у отца несильный, но когда начинает петь, перебирая струны, трудно не подпасть под его обаяние и не проникнуться душевностью исполнения. Я с детства наблюдал, как он мгновенно становился центром любой компании и как по сердцу ему был сумасшедший круговорот, который сам и завертел. Помню разборки, которые устраивал мне по поводу одежды: – Юра, ты меня бесишь! Почему ходишь во всем черном?! – Пап, мне нравится. Вообще признаю только три цвета: черный, белый и серый. – Э-э-эхх! Вот я, если б мог, оделся бы во все цвета радуги! Уйдя в запас, мечту свою исполнил: года три или четыре носил рубашки и штаны исключительно попугайских расцветок – ну просто вырви глаз! В моем нынешнем возрасте и при имеющемся опыте иногда ловлю себя на мысли: «Нет, не надо было отцу идти в творческую профессию – в театральной и киношной среде с подсиживанием, интригами, зубодробительными рецензиями он не дожил бы и до сорока. У меня психика гораздо крепче – и то случались тяжелые моменты». Сейчас папе шестьдесят пять, дай бог ему побыть с нами еще лет… сорок. – Мама была другой? – Да. Полной противоположностью отцу! Не любила быть в центре внимания, терпеть не могла фотографироваться. В семейном архиве есть всего два десятка ее фотографий… Всегда в тени мужа, сдержанная, немногословная. В приоритете – покой в доме, ради которого готова пожертвовать чем угодно. Даже если знала, что права, на своем не настаивала, в спор не вступала. Была в советские времена такая «опция» – жена офицера, и мама полностью ей соответствовала. Родители поженились за год до папиного выпуска из военно-морского училища, а следующим летом, шестнадцатого июня, на свет появился я. Отец получил назначение под Мурманск – в самый классный, просто бомбический экипаж подлодки «50 лет СССР». На выданные тещей деньги новоиспеченный отец затарил сумку шкаликами с водкой – ею отметил с однокурсниками мое рождение; друзья по традиции искупали его в фонтане, после чего, не совсем просохнув, он стоял под окнами роддома и кричал: «Ира, я так счастлив!!!» А вскоре пропал, и целых три месяца о нем не было никаких вестей… Уговор между родителями был такой: папа в течение недели устраивается на месте, возвращается в Питер и забирает нас с мамой. До рейса Ленинград – Мурманск оставалось всего ничего, когда офицеру-подводнику Герману Тарасову изменили назначение: «бомбический экипаж» приглянулся одному из «сынков». Отец приказом был направлен для прохождения службы на Камчатку, во 2-ю Краснознаменную флотилию АПЛ КТОФ. О чем никогда не жалел и не жалеет. Добирался самолетами, паромом, машиной. На месте, не дав ни опомниться, ни позвонить жене, его отправили в «автономку». Отец позвонил уже, наверное, в октябре: «Ира, собирайся и прилетай». И мама со мной, грудничком, полетела на Камчатку – с пересадками и ожиданиями в промежуточных аэропортах. Зимы на Камчатке несуровые, но очень снежные: за ночь дверь подъезда заметало наполовину. Кто-то из офицеров вылезал через окно второго этажа на козырек, спрыгивал вниз и откапывал дверь. Тут же из дома вылетали еще пятеро-шестеро молодцов с лопатами и прорывали в сугробе горизонтальный тоннель, по которому шли на службу. Летом на мотоцикле ездили собирать лесную малину. Оставив «Урал» на тропинке, пешком пробирались сквозь заросли двухметрового тростника. В одной руке отец держал ведро, в другой – топор. Усадив меня на шею, командовал: «Хватайся за уши и потихоньку тяни – подсказывай, в какую сторону двигаться». Я «рулил», а он лихо рубил топором тростник, делая просеку. Бывало, возвращаемся к мотоциклу с очередным ведром малины, а медведь пристроился рядом с «Уралом» и ест собранную ягоду прямо из люльки. Куда деваться? Стоишь и ждешь, пока эта сволочь нажрется. На подлодке папа прослужил шесть лет, потом по здоровью был списан на берег – подвело сердце. Наверное, оно действительно должно быть железным, чтобы выдержать испытание «автономками». На глубине совсем иной химический состав воздуха, который быстро сажает человеческий «мотор». Было время, когда на советских подлодках делали спортзалы, но вскоре оборудование заварили точечной сваркой – выяснилось, что на глубине любая физическая нагрузка многократно ускоряет процесс износа сердечно-сосудистой системы. Несмотря на мелкий возраст, помню папины возвращения из похода. Вот он медленно поднимается на горку, где стоит наш дом, потом слышны его шаги по лестнице. Добравшись до четвертого этажа и переступив порог квартиры, он буквально впадал в коридор – за три месяца ноги превращались в обтянутые кожей кости. Если на суше человек в день проходит в среднем пять-шесть километров, то на подлодке офицер, работая по вахтам, за сутки – всего четыреста метров. Мышцы просто-напросто атрофируются. После двух лет папиной береговой службы семья, в которой уже был мой младший брат Саша, решила перебираться в Питер. Однако сразу не получилось – пришлось сделать крюк через Одессу и остаться там на два замечательных года. Самые яркие впечатления из черноморского детства – растущие у каждого дома абрикосы, виноград, шелковица и то, что их ягоды можно есть пудами. Еще купание в лимане, когда выходишь из мелкой грязной лужи, высыхаешь на солнце, проводишь помидоркой по груди – это ты посолил! – и в рот. Уезжать из Одессы, где оброс друзьями, было тяжело, но впереди ждал Питер, который я успел полюбить благодаря дедушке Боре. Мамин отец был художником-реставратором и брал меня, шестилетнего, на объекты: в Никольский собор, Академию художеств, Мухинское училище. Хорошо, мама не знала, что вслед за дедом лазаю по строительным лесам, – досталось бы и ему, и мне. Во второй половине восьмидесятых начались гонения на армию: человеку в форме бросали вслед оскорбления, а если приезжал в чужой район навестить друга, то выйдя часа через три, мог обнаружить, что у машины проколоты колеса. Зарплата отца, капитана второго ранга в запасе, преподававшего в Арктическом училище, была не ахти какой, поэтому маме пришлось искать работу. Устроиться по профессии можно было и не мечтать: в Питере ничего не строилось даже по типовым проектам, не говоря уже об «архитектурных излишествах». Место нашлось на швейной фабрике «Первомайская заря» – контролером качества. Работа адова: целый день перед тобой мчится ткань и ты должен, заметив брак, нажать на педаль, остановить поток и отметить испорченный кусок. Ни на мгновение ни отвлечься, ни расслабиться – и так восемь часов подряд. – По-моему, пришла пора рассказать, как вы попали в кино. Где Юрий Мамин вас нашел? – Сначала о том, как попал в студию «Форте» и как выбирал между пластическим театром и футболом. Вскоре после переезда в Питер отец предложил записаться в яхт-клуб при Арктическом училище, и я с радостью согласился. Еще бы! Бороздить просторы Финского залива, а потом, глядишь, и воды Балтики – кто бы из мальчишек отказался?! Записался в клуб осенью, и до весны вся учеба состояла в долгих лыжных походах и изучении морских узлов. С наступлением тепла нас бросили на ремонт шлюпок «Юниор» – корытец размером с ванну, имеющих, однако, киль и парус. Сначала мы их шкурили, потом конопатили и красили. Когда наконец пришло время спускать «корытца» на воду, я вдруг расхотел становиться яхтсменом и ушел в футбол. Вот это, казалось, уж точно мое! Доигрался до капитана команды, не раз становившейся бронзовым призером городских соревнований «Кожаный мяч». Однажды в нашу школу на капустник пришла руководитель студии «Форте» Татьяна Ивановна Голодович, любимая ученица Игоря Владимирова, в прошлом – акт риса Театра Ленсовета. Я играл туриста, который тащит воображаемый тяжеленный рюкзак и при этом что-то поет. Вышло, видимо, забавно, раз зал хохотал. После представления Татьяна Ивановна пригласила меня к себе в театр-студию. Я ответил, что подумаю, но больше из вежливости: у меня ж футбол! Однако из любопытства заглянул как-то на репетицию и ничего не понял. Вскоре стало не до футбола – серьезно заболел папа. С сильнейшей аритмией его положили в больницу на два месяца. Оставшись в доме старшим мужчиной, я должен был помогать маме по хозяйству и заниматься младшим братом. В студии появился следующей весной, и на сей раз происходившее там заинтересовало: ровесники легко переходили от драматической игры к танцу, от танца – к акробатике, от акробатики – к слову. Я остался и задержался в «Форте» на десять лет. Студия выступала на всех крупных праздниках в Питере: Дне Победы, Дне города, Дне Военно-морского флота, а однажды – к тому времени я уже довольно долго занимался – мы танцевали на открытии «Кинотавра»: яркие костюмы, азартная, страстная хореография, невероятно пластичные девочки и мальчики. Когда режиссеру Мамину для съемок понадобилась группа детей, умеющих перевоплощаться и танцевать, выбор сразу пал на воспитанников Голодович. В коллективе я был самым «свеженьким» – пришел всего месяц назад, но именно меня выбрали на роль руководителя «стачечного комитета» учеников бизнес-лицея, восставших против отмены уроков музыки и исключения из меню в столовой булочек с повидлом. Фильм снимался довольно долго – года два, а может, и больше. Точно помню: когда танцевал у Сакре-Кёр, мне было тринадцать, а когда картина вышла на экраны – пятнадцать. Первый раз «Окно в Париж» запускалось с Игорем Костолевским. Дававшие деньги французы выдвинули условие: если с их стороны занята звезда Аньес Сораль, то и русский партнер должен соответствовать. Было снято довольно много школьных сцен, а потом процесс встал и возобновился уже с Сергеем Симоновичем Дрейденом. От замены фильм, считаю, выиграл. Учитель музыки Чижов в исполнении Костолевского – лощеный красавец, герой в чис том виде, а Дрейден сыграл фрика – смешного, обаятельного, до мурашек пронзительного и искреннего. Хорошо помню Питер начала девяностых. Школу с облупленным фасадом, выщербленными полами и стенами. Вид из окна трамвая, объезжающего Сенную площадь, заставленную разномастными ларьками, устланную кусками грязного картона, мокнущего в серой снежной жиже. Если сегодня иногда кажется, что все плохо, вспоминаю Сенную начала девяностых и думаю: «Да нет, нормально же все!» Кстати, расположенная в самом центре Питера огромная барахолка попала в фильм: по ней Николь идет в пеньюаре, с полотенцем на голове и чучелом попугая. В питерских сценах Сораль и играть-то особо не пришлось: ее ужас от увиденного на улицах и во дворах, от общественного туалета, где снимался эпизод с «доброй» тетенькой-смотрительницей, обобравшей несчастную Николь до нитки, был абсолютно искренним. В Европе у картины был крутой прокат, во Франции она шла более полугода и имела ошеломительный успех. У нас же в ту пору не было ни фильмов, ни мест для их показа. Кинотеатры отданы под склады, казино, салоны подержанных иномарок, а «Ленфильм» напоминал заброшенное кладбище: лампочки в коридорах и туалетах выкручены или разбиты, во дворе бродят пьяные осветители и воют бездомные собаки. Среди многочисленных павильонов таблички на дверях только у двух: «Окно в Париж» и «Хрусталев, машину!» – Алексей Герман снимал картину второй или третий год … «Окно в Париж» еще не показали по телевидению – а значит, его никто не видел, – когда появилась первая рецензия под названием «Пролетая над гнездом какашки, или Юрий Мамин крышами уходит в Париж». Смысл сводился к тому, что на любимый город и так много грязи вылито, а Мамин добавил еще. Особо отмечалось, что слово из трех букв на заборе написано так крупно, что не влезает в кадр. По студийцам тоже проехались, назвав «роботами» и «командой сумасшедших». Сейчас давняя разгромная рецензия скорее забавляет: пересмотрев фильм взрослым, я понял, какой он мудрый, смешной и трогательный. Настоящая сатира – редкий пример в отечественном кино. Что еще можно вспомнить в этом жанре? «Фон тан» и «Бакенбарды» того же Мамина. Уже в нынешнем тысячелетии Юрий Борисович хотел снять вторую часть «Окна в Париж», был написан сценарий, где рассказывалось, как сложились судьбы учеников Чижова через двадцать лет. Режиссер просил деньги на картину и у «Ленфильма», и у Госкино, и у спонсоров. Ему обещали, он, воспрянув духом, начинал готовиться. Иногда мы пересекались и Мамин говорил: «Все, Юра, скоро примемся за работу». День «Ч», однако, так и не наступил. Может, оно и к лучшему, потому что иносказательность, эзопов язык востребованы только тогда, когда о многом нельзя говорить напрямую. При свободе слова сатира умирает. Мамин очень тяжело переживал утрату любимого жанра и не найдя своего места в современном отечественном кино, уехал в Америку. – Актерский дебют как-то повлиял на вашу жизнь? Прибавил популярности у сверстников? – Не повлиял и не прибавил. Это сейчас, снявшись в сериалах вроде «Папиных дочек», «ОБЖ», подростки становятся звездами, а тогда актерство считалось в пацанской среде чуть ли не зазорным – почти как балет или народные танцы. Посему я особо не распространялся о первом киноопыте. Сыграло свою роль и отношение родителей, которые редко бывали на выступ лениях «Форте». Они, и когда я учился в ЛГИТМиКе, не приходили на зачеты и экзамены, а на моих театральных премьерах были пару раз – не больше. Это вовсе не означает, что им было неинтересно то, чем занимается сын, – просто родители дали мне право самому распоряжаться своей судьбой. Единственное кино с моим участием, которое обсуждалось в семье, это десятисерийный «Палач» – второй сезон «Мосгаза». Отец настолько проникся историей разоблачения Антонины Макаровой, которая во время Великой Отечественной войны, служа у фашистов, расстреляла полторы тысячи соотечественников, что перерыл весь Интернет в поисках документов и реальных свидетельств. Впрочем, о моем майоре Пожидаеве я не услышал от родителей ни слова – ни плохого, ни хорошего. Зато получил весьма лестную оценку от мамы лучшего друга Киры Плетнева Тамары Федоровны: «Вчера смотрела «Мосгаз» – ты там чудо какая сволочь!» – Упоминание о Кирилле – прекрасный повод вернуть вас в студенческие времена. Кстати, чем закончился ночной набег на Летний сад? – Когда увидели свет фонаря, решили, что милиция, – оказалось, охранник. Конечно, последовали угрозы вызвать патруль, который накажет по всей строгости закона. Хором стали оправдываться: – Мы ж не вандалить – не ломать, не рвать. Просто кайфануть: когда еще придется ночью в Летнем саду выпить водки? Охранник пошарил фонариком по нашим студенческим билетам: – Ладно, идите вон туда – к пруду с лебедями, на берегу есть скамеечка. Дальше ни-ни – там собаки спущены. По пути к пруду переговариваемся: «Ни фига себе! А если б с другой стороны полезли, нами бы уже барбосы ужинали?» Разместились на скамеечке, налили в стаканчики чуть-чуть водки, потягиваем, о судьбах мирового театра и кинемато графа рассуждаем, а охранник неподалеку под деревом примостился: сидит уши греет. Самый старший из нас, Мишка Николаев, сегодня ведущий актер Театра на Васильевском, спрашивает: – Может, ему налить? Мы с Кирой – возмущенным дуэтом: – Ты что?! Он же на работе! Мишка – охраннику: – Может, пятьдесят грамм? Тот с готовностью: – Да! В институте мы с Кирой были бессменными партнерами, и лучшего «соучастника» я пока не встретил. В основу нашего общего дипломного спектакля легла ранняя пьеса Елены Греминой «Дело корнета О-ва». Кира и я играли в разных составах главного героя, репетировали до полного изнеможения: первый делал прогон, второй сидел в зале, все подмечал, потом два-три часа обсуждали, кто что нового открыл в образе. Потом менялись местами. Оба за диплом получили отлично. Кира всегда хотел быть режиссером, этой профессии намеревался учиться и в ЛГИТМиКе, но поскольку на момент поступления ему было всего шестнадцать, руководство института отказало: «Вы слишком юны, нет жизненного опыта. Давайтека на актерский». В режиссуру мой друг, пусть и окольным путем, все-таки пришел, и его отношение к этой профессии вызывает у меня огромное уважение, неподдельное изумление и дикое раздражение одновременно. На площадке он воин-одиночка с лозунгом: «Весь мир против меня, но я буду делать свое дело во что бы то ни стало!» Если встречаемся в период съемок, часто слышу такой монолог: – Никому, кроме меня, этот фильм не нужен! Ну не хочет продюсер, чтоб я снял хорошее кино, – ну и окей! Съемочная группа – сплошь раздолбаи, вот прямо чувствую: половина всю ночь бухала. Актерам бы только посидеть в вагончике, потрындеть – могли бы репетировать, а они баклуши бьют! Обедают все по часу! Что, быстрее есть не могут?! Бывает, возражаю: – Ты когда сам играешь, а не снимаешь, тоже ведь говоришь: «О, полтретьего! У меня обед, и до полчетвертого прошу не тревожить»? То есть как актера тебя такое положение дел устраивает, а как режиссера – нет? Нелогично. Хочешь, чтобы вся киногруппа была как один? Так не бывает. Вспоминай почаще афоризм: «Это Колумб хотел открыть Америку, а вся команда хотела домой». И все-таки в моем отношении к Плетневу-режиссеру превалирует восхищение. Сегодня он один из немногих, кто задается правильными вопросами: что и для чего он снимает? А главное – про ЧТО. Не оставляю надежды, что когда-нибудь Кира позовет в свой фильм или мы встретимся на площадке у другого хорошего режиссера. – В вашей фильмографии есть работа, которая стоит особняком, – роль лейтенанта Анохина в картине «Полумгла». – Одна из немногих, которой могу гордиться. Режиссердебютант Артем Антонов запускал фильм о фронтовике-герое, которого после серьезного ранения признают негодным к службе и отправляют руководить бригадой из пленных люто ненавидимых им немцев – в глухой архангельской деревне они должны построить вышку для радиомаяка. Сюжет будущей картины рассказал младший коллега, которого позвали на пробы. Я сразу загорелся ролью Анохина и попросил приятеля взять меня с собой. Когда оба попробовались, режиссер сказал: – Понимаешь, Юра, герою девятнадцать, а ты на десять лет старше… – У тебя два выхода, – ответил я. – Взять девятнадцатилетнего и объяснять ему, что такое потеря товарищей, боль, смерть, ненависть. Или берешь меня, а девятнадцать лет я тебе сыграю. Это был первый и пока единственный случай, когда я себя настойчиво предлагал. «Полумгла» взяла несколько призов на международных фестивалях, в Германии ее дважды в прайм-тайм показали по телевидению, а у нас тихо прокатили в двух десятках кинотеатров. Глухую архангельскую деревню построили под Питером и снимали самой холодной в нынешнем тысячелетии зимой. Морозы стояли страшные . К концу двенадцатичасовой смены на улице, несмотря на то что поверх сапог были надеты валенки, я совсем переставал чувствовать ноги – ковылял в вагончик будто на березовых чурбаках. Озвучание – загадочная, странная вещь, которую я очень люблю. Коллеги знают: озвучкой можно дотянуть выразительность эпизода еще на десять процентов или «убить» уже имеющиеся девяносто. В «Полумгле» есть сцена, где мой Анохин уходит из госпитального кинозала, когда начинают показывать документальные кадры с пленными немцами, которых гонят через Москву. На вопрос медсестрички – А сам-то чего не смотришь? – лейтенант отвечает: – Живыми видеть не могу. Так вот, эту реплику я озвучивал дольше, чем всю роль. Ну не заходила фраза – хоть убейся. Ведь в ней, сказанной тихо, почти шепотом, должны звучать и ненависть к врагу, и боль от потери товарищей, и то, что сам находился на волосок от смерти. Зато сцену в поезде, где Анохин, сильно выпив, с оружием молча бросается на пленных, записали с первого раза. Я давно для себя уяснил: чем эмоциональнее, «кровавее» эпизод, тем проще его и сыграть, и озвучить. Самое сложное – полутона, сдерживаемые, скрытые эмоции. – Вашими партнерами на сцене и площадке были актеры, давно заслужившие зрительскую любовь, – Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков, Андрей Смоляков… Совместную работу с кем из них считаете самой большой удачей?








