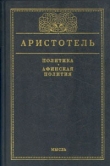Текст книги "Этика и политика"
Автор книги: Аристотель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Теперь следовало бы сказать, что такое добродетель, если ее действование есть счастье. В самом общем смысле добродетель – это наилучшее состояние (hexis)23. Однако такие общие слова, пожалуй, недостаточны, и нужно более ясное определение добродетели.
5. Прежде всего, надо сказать о ее источнике, душе, – не о том, что такое душа (об этом другое рассуждение), а как она в общих чертах расчленяется. Душа, утверждаем мы, разделена на две части – обладающую разумом (to logon echon) и внеразумную (to alogon). В обладающей разумом заключены разумность (phronēsis)24, проницательность (agkhinoia), мудрость, способность к научению, память и тому подобное; во внеразумной – то, что зовется добродетелями: благоразумие (sōphrosynē), справедливость (dikaiosynē), мужество и другие черты нрава (ēthos), вызывающие одобрение. В самом деле, за них нас одобряют, тогда как за свойства, входящие в разумную часть души, никто никого не благодарит: человеку никогда не выражают одобрение за то, что у него есть ум, разумность или иное подобное свойство. Но и внеразумную часть души одобряют, конечно, только когда она согласуется с разумной частью души и служит ей.
Для этической добродетели губительны и недостаток, и излишество. В том, что вредны как недостаток, так и излишество, легко убедиться на примере чувственно воспринимаемых вещей (когда речь идет о неочевидном, надо пользоваться свидетельством очевидного). В самом деле, мы сразу убеждаемся в сказанном на примере гимнастических упражнений: когда их слишком много, силы гаснут, и когда слишком мало – бывает то же. То же самое с питьем и едой: при очень большом количестве их здоровье портится, при малом – также, а когда все в меру, силы и здоровье сберегаются. Нечто подобное происходит и с благоразумием, мужеством и другими добродетелями: сделай человека чересчур бесстрашным, так что он и богов не станет бояться, – он уже не мужественный, а безумный; а если всего боится, то трус. Мужественным поэтому будет и не тот, кто всего боится, и не тот, кто ничего не боится. Добродетель и губится, и умножается при помощи одного и того же: и чрезмерные страхи, и страх всего губительны, и полное бесстрашие тоже. Мужество – это мужество перед страхом, так что, когда страх умерен, мужество увеличивается; одни и те же вещи и увеличивают, и губят мужество: под действием тех же самых страхов люди становятся и мужественны, и трусливы. То же самое можно сказать и про другие добродетели.
6. Добродетель определяется не только этим, но также скорбью и наслаждением: ради наслаждения мы идем на дурные поступки, скорбь удерживает от хороших. И вообще невозможно приобрести ни добродетели, ни порока, не испытав скорби или наслаждения. Итак, скорбь и наслаждение имеют отношение к добродетели.
Свое название, если нужно исследовать истину исходя из буквы (а это, пожалуй, нужно), этическая добродетель получила вот откуда: слово ēthos, нрав, происходит от слова ethos, обычай, так что этическая добродетель называется так по созвучию со словом привычка. Уже отсюда ясно, что ни одна добродетель внеразумной части душа не возникает в нас от природы: что существует от природы, то уж не изменится под влиянием привычки. Скажем, камень и вообще тяжести от природы падают вниз. Сколь бы часто ни бросали их вверх, приучая лететь кверху, они все равно никогда не несутся ввысь, но всегда падают вниз. Так же обстоит дело и в других подобных случаях.
7. Желая определить, что такое добродетель, мы должны теперь узнать, что именно находится в душе. А находятся в ней движения чувств (pathē), предрасположенности (dynameis) и состояния (hexeis). Поэтому добродетель явно должна оказаться чем-то из этих трех. Движения чувств25 – это гнев, страх, ненависть, вожделение, зависть, жалость и все подобное, чему обычно сопутствуют огорчение и удовольствие. Предрасположенности26 – это то, в силу чего мы зовемся способными испытывать движения чувств, т. е. то, благодаря чему мы в силах гневаться, огорчаться, жалеть и т. д. Состояния – это то, соответственно чему наше отношение к движениям чувств бывает хорошим или плохим. Возьмем отношение к гневу: когда мы слишком гневливы, мы находимся в плохом состоянии по отношению к гневу27, а если вовсе не гневаемся, на что следует гневаться, то и тогда наше состояние в том, что касается гнева, плохое. Придерживаться здесь середины – это значит и не слишком распаляться, и не оставаться бесчувственным; когда мы так относимся к нему, мы находимся в хорошем состоянии. То же самое можно сказать о прочих подобных вещах. В самом деле, умеренность в гневе и уравновешенность (to prаion) занимают середину между гневом и бесчувствием28 по отношению к гневу; и в таком же соотношении находятся хвастовство и притворство (eironeia): делать вид, что имеешь больше того, чем имеешь, – это хвастовство, а меньше – это притворство29; середина между ними и есть правдивость (alētheia).
8. Подобным образом обстоит дело и со всем остальным. А именно благодаря состоянию, в котором мы находимся, наше отношение к движениям чувств хорошо или дурно; и хорошее состояние (еу ekhein) по отношению к ним есть отсутствие наклонности к их избытку и к их недостатку. Наше состояние хорошо, когда в нас есть наклонность держаться середины противоположных движений чувств, и за это нас одобряют; наоборот, дурное состояние (kakōs ekhein) – это наклонность к их избытку или недостатку. А поскольку добродетель – середина этих движений чувств, движения же чувств – это или огорчения, или удовольствия, или нечто не лишенное огорчения или удовольствия, то и отсюда видно, что добродетель соотносится с огорчениями и удовольствиями.
Есть и другие движения чувств, которые, по-видимому, нехороши независимо от того, слишком их много или слишком мало, как, например, разврат: развратник – не тот, кто совращает свободных женщин больше, чем следует, но предосудительна и эта страсть, и любая подобная ей, заключающаяся в распущенности по отношению к удовольствиям, равно как и заключающаяся в избытке или недостатке.
9. После этого, пожалуй, необходимо сказать о том, что противопоставляется середине: излишек или недостаток. В одних случаях середине противоположен недостаток, в других – излишек. Например, мужеству противоположна не дерзкая отвага (thrasytēs), а трусость, т. е. некий недостаток. С другой стороны, благоразумию, середине между распущенностью и бесчувствием к удовольствиям, по-видимому, противоположно не бесчувствие, т. е. недостаток, а распущенность, т. е. излишек. Бывает, что середине противопоставляется то и другое, излишек и недостаток, поскольку середина меньше, чем излишек, и больше, чем недостаток. Так, расточительные называют щедрых скупыми, а скупые щедрых – расточительными, равно как дерзко отважные и опрометчивые зовут мужественных трусливыми, а трусливые мужественных – опрометчивыми и одержимыми (mainomenoys). Две причины, по-видимому, заставляют нас противопоставлять середине то избыток, то недостаток. В одном случае смотрят на сам предмет, ближе или дальше он от середины, например, что дальше от щедрости, расточительность или скупость; на щедрость больше походит расточительность, чем скупость, и, стало быть, скупость дальше отстоит от нее, а то, что дальше отстоит от середины, – то, по-видимому, более противоположно ей, так что сам предмет показывает, что в этом случае недостаток более всего противоположен середине. В других случаях смотрят иначе; например, что от природы более свойственно, то более противоположно середине. Например, нам свойственнее распущенность, чем упорядоченность30. Мы склоняемся больше в сторону, которая нам свойственна, и к чему мы больше склоняемся, то более противоположно [середине]; однако мы больше преуспеваем в распущенности, чем в упорядоченности; следовательно, избыток [в этом случае] наиболее противоположен середине, ведь распущенность – это избыток по отношению к благоразумию.
Итак, мы рассмотрели, в чем состоит добродетель. Она, по-видимому, есть некая середина между противоположными страстями. Недаром человек, желающий быть уважаемым за свой нрав (ēthos), должен соблюдать середину во всяком движении чувств. Оттого и трудно быть достойным человеком, ведь в любом деле трудно держаться середины. Например, круг начертить может всякий, но установить его середину непросто31; подобно этому, и рассердиться легко, и легко впасть в противоположную крайность, но удержаться посредине – трудно. Вообще можно наблюдать на любом движении чувств, что удаленное от середины легко, а середина, за которую нас хвалят, трудна. Из-за этого добродетель редка.
Поскольку о добродетели, таким образом, сказано, следовало бы теперь рассмотреть, возможно ли ее приобрести, или, как говорит Сократ, не в нашей власти (eph’ hemin) стать хорошими или дурными. Ни один человек, по его словам, на вопрос, хотел ли бы он быть справедливым или несправедливым, не выберет несправедливости. То же можно сказать и про смелость и трусость и про любую добродетель, и если люди бывают дурны, то, очевидно, они дурны не по своей воле; отсюда ясно, что и хорошие тоже не по своей воле добродетельны. Однако такое рассуждение неверно. В самом деле, почему тогда законодатель не позволяет совершать дурных поступков, а прекрасные и достойные велит? Почему он в дурных делах устанавливает наказание, когда их делают, в добрых – когда их не делают? Нелепо было бы узаконивать то, что не в нашей власти исполнить. Нет, видимо, от нас зависит быть людьми достойными или дурными. О том же свидетельствует и сама возможность похвалы и порицания. В самом деле, за добродетель хвалят, за порочность порицают, но ведь за невольные поступки не хвалят и не ругают; значит, в нашей власти поступать достойно или недостойно. Чтобы доказать, что мы невластны в своих поступках, ссылались на такой пример: почему, если мы больны или некрасивы, никто нас за это не бранит? Это неправда; мы и таких людей браним, если находим, что они сами виновны в своей болезни и в плохом состоянии своего тела. Мы и тут усматриваем добровольное начало (to hekoysion). Итак, очевидно, что мы по своей воле бываем добродетельны или порочны.
10. Еще яснее это можно видеть из следующего. Все природное способно порождать себе подобную сущность; скажем, растения и животные – и те и другие способны порождать названным образом. Они порождают из первоначал (archōn); дерево, например, родится из семени, которое есть некое первоначало. Происходящее из первоначал ведет себя таким образом: каковы первоначала, таково и происходящее из первоначал. Всего яснее это видно в геометрии. Поскольку и тут берутся некоторые первоначала, то от того, каковы эти первоначала, зависит получающееся из них; например, если треугольник имеет углы, равные в сумме двум прямым, то четырехугольник – равные четырем прямым, и, если изменится треугольник, вместе с ним так же изменится и четырехугольник, потому что он соответствует [треугольнику]; наоборот, если бы углы четырехугольника не были равны четырем прямым, то и в треугольнике они были бы не равны двум прямым.
11. С человеком – то же самое и подобное тому. Поскольку человек способен порождать те или иные сущности (oysias) из определенных первоначал, постольку он порождает из некоторых первоначал и те действия (praxeōn), которые он совершает. Что еще иначе могло бы их породить? Ни про неодушевленные, ни про одушевленные существа, кроме человека, мы не говорим, что они действуют (prattein)32, а [говорим так] только о человеке. Ясно, что человек – сила, порождающая действия. Поскольку же действия, как мы видим, изменяются и мы никогда не делаем одного и того же, причем действия проистекают из определенных первоначал, то очевидно, что при изменении действий меняются их первоначала, как мы уже говорили выше на примере из геометрии. Первоначало действия, как хорошего, так и плохого, – это намерение, воля и так далее; очевидно, стало быть, и они изменяются. Мы свои действия изменяем добровольно, так что и первоначало, т. е. намерение и воля, меняется добровольно. Отсюда ясно, что от нас зависит быть хорошими или дурными.
Кто-нибудь скажет, пожалуй: если от меня зависит быть справедливым и добродетельным, то стоит мне только захотеть, и я стану добродетельнее всех. Но это, конечно, невозможно. Почему? Потому, что даже в вещах, касающихся тела, это недостижимо: не у всякого, кто примется ухаживать за своим телом, оно непременно станет самым прекрасным. Нужен не только уход, нужно, чтобы и от природы тело было ладным и крепким (kalon k’ agathon)33. Уход сделает тело лучшим, но не самым лучшим. То же следует предполагать и в отношении души. Человек, стремящийся быть самым добродетельным, тоже не станет им, если его природа этому не способствует, но более достойным станет.
12. Теперь, когда ясно, что быть добродетельными зависит от нас, необходимо сказать о том, что такое добровольный поступок (to hekoysion). Это – добровольность – для добродетели имеет решающее значение. Добровольным в собственном смысле слова бывает то, что мы делаем без принуждения. Об этом, впрочем, надо сказать яснее. То, в силу чего мы совершаем тот или иной поступок, есть стремление (orexis), стремление же бывает трех видов: страстное желание (epithymia), порыв (thymos), хотение (boylēsis). Рассмотрим сначала поступок, совершаемый по страстному желанию. Доброволен ли он? Не похоже, чтобы он был недобровольным. Почему и на каком основании? Потому, что поступки недобровольные мы совершаем по принуждению, а все, что совершается по принуждению, вызывает огорчение, тогда как поступки, совершаемые по страстному желанию, вызывают наслаждение. Выходит, стало быть, что делаемое по страстному желанию не может быть недобровольным, но должно быть добровольным. Однако есть довод, который говорит против этого, – довод «от распущенности». В самом деле, никто, как считают, по доброй воле не делает зла, если знает, что это зло; человек же распущенный все равно делает зло, зная, что оно зло, и делает его с вожделением. Значит, он поступает не добровольно, следовательно, по принуждению. Против этого тоже есть свой довод: вожделенное делается не по принуждению, поскольку всякому страстному желанию сопутствует удовольствие, а где удовольствие, там нет принуждения34.
И еще одним способом можно показать, что распущенный человек действует по доброй воле: неправые (adikoyntes) творят свою неправду добровольно, распущенные же не правы и творят неправду, так что распущенный в своей распущенности поступает по своей воле.
13. И опять против этого есть довод в пользу недобровольности. В самом деле, воздержный воздержан по доброй воле: ведь его хвалят, хвалят же за поступки добровольные. Но если совершаемое по страстному желанию оказывается поступком добровольным, то тогда совершаемое наперекор желанию недобровольно. Воздержный же действует наперекор желанию, так что, выходит, воздержный воздержан недобровольно, однако это не похоже на истину. Значит, совершаемое по страстному желанию, в свою очередь, тоже будет недобровольным.
То же самое можно сказать и о действиях, к которым толкает порыв: здесь сохраняют силу те же доводы, что и в отношении страстного желания, и они создают ту же апорию, поскольку гнев может охватывать и распущенного человека, и воздержного35.
Нам осталось рассмотреть еще один вид стремления, который мы назвали хотением (boylēsis). Добровольно ли оно? Нам скажут: люди распущенные, к чему они порываются, того и хотят; следовательно, распущенные поступают дурно по своему хотению. Но добровольно ведь никто не делает зла, если знает, что это зло; распущенный же человек хотя и знает, что зло – это зло, все равно делает его, если ему так захотелось. Выходит, он поступает недобровольно и хотение есть вещь недобровольная. Подобным рассуждением, однако, упраздняется [само понятие] распущенности и распущенного. Ведь если распущенный действует недобровольно, его нельзя порицать; но его порицают; стало быть, его действия добровольны, и, следовательно, хотение добровольно.
Поскольку некоторые доводы явно противоречат друг другу, надо внести ясность в [понятие] добровольности.
14. Прежде всего, конечно, надо сказать о насилии (biа) и принуждении (anagkē). Насилие [может распространяться и на] неодушевленные предметы. В самом деле, любой неодушевленный предмет имеет свойственное ему место: для огня это верх, для земли низ. Но тут, конечно, возможно применение насилия, так что камень будет двигаться вверх, а огонь – вниз. Насилию можно подвергнуть и животное – скажем, перехватить коня, бегущего прямо, и повернуть в сторону. Когда причина действия, совершаемого наперекор природе или наперекор желанию, лежит вовне, все делаемое так мы назовем делающимся насильно. Наоборот, где причина лежит внутри самих [делателей], там мы не говорим о насилии. А иначе распущенный человек станет возражать и не признает себя дурным: он скажет, что плохо ведет себя из-за того, что страстное желание насилует его.
15. Итак, дадим следующее определение насилию: насилие имеет место там, где причина, заставляющая действовать, лежит вовне; наоборот, где причина внутри, в самих вещах, там нет насилия.
Надо сказать, в свою очередь, о принуждении и о вынужденном (toy anagkaioy). Далеко не всегда следует говорить о чем-либо как о вынужденном. Не следует делать этого тогда, когда мы что-то устраиваем ради наслаждения. Ведь нелепо было бы говорить, что наслаждение вынудило кого-то растлить жену своего друга. Причина в том, что принуждение тоже может исходить не от всего, а только от внешнего, – например, когда кто-то, вынуждаемый обстоятельствами, терпит убыток, спасая что-то более важное; скажем: я был вынужден спешно пойти на поле, иначе там все погибло бы36. Итак, принуждение относится к подобным случаям.
16. Если добровольности нет ни в каком порыве (hormēi), то она, по-видимому, коренится в умысле (dianoia). Невольное (akoysion) – это то, что делается вынужденно, насильственно и, в-третьих, без умысла. Подтверждение тому – случаи [из жизни]. Когда человек ударит, убьет или учинит что другое неумышленно, мы говорим, что он сделал это невольно, и [тем самым признаем, что] добровольное – это умышленное. Рассказывают, например, как одна женщина дала кому-то выпить любовный напиток (philtron) и человек потом умер от этого напитка, а женщина предстала перед ареопагом, однако была оправдана именно потому, что действовала без злого умысла: напоила из любви, но ошиблась. Убийство признали невольным, поскольку она давала любовный напиток без умысла погубить человека. Здесь видно, что добровольное совпадает с умышленным.
17. Осталось рассмотреть, что такое свободный выбор (proairēsin), стремление ли это или нет. Стремление присуще и другим живым существам, свободный же выбор не присущ; ведь выбор сопровождается рассуждением (meta logoy), рассуждение же не присуще никому из животных, [кроме человека], так что выбор не может быть стремлением. Но может быть, он – хотение? Или тоже нет? Ведь хотение относится и к вещам недоступным: мы хотели бы, например, быть бессмертными, но не выбираем этого. И еще. Выбор направлен не на саму цель, а на то, что ведет к цели: так, никто не выбирает себе здоровья, но мы выбираем то, что полезно для здоровья, – прогулки, бег; хотение, напротив, направлено на саму цель: мы хотим быть здоровыми. Так что и отсюда тоже видно, что хотение и выбор не совпадают. Выбор (proairēsis), по-видимому, соответствует точному значению этого слова: мы выбираем одно вместо другого, например лучшее вместо худшего. Таким образом, всякий раз, когда из предложенного на выбор мы отдаем предпочтение (antikatallattōmetha) лучшему, а не худшему, уместно, как нам кажется, говорить о выборе.
Если, таким образом, никакой из видов стремления не есть выбор, то, может быть, с выбором связано раздумывание37 (to kata dianoian)? Или, пожалуй, тоже нет? Ведь о многом мы думаем и составляем себе мнение при раздумывании, но выбираем ли мы, когда раздумываем? Скорее, нет. Ведь часто мы раздумываем о том, что [делается] в Индии, однако не выбираем ничего. Следовательно, выбор – это и не раздумывание.
Если выбор не совпадает ни с одной из названных вещей в отдельности, а они и есть все то, что находится в душе, то выбор неизбежно должен быть соединением некоторых из них.
Как уже было сказано, выбор касается благ, ведущих к цели, а не самой цели, и он касается вещей нам доступных и позволяющих спорить о том, следует ли избирать то или это; отсюда ясно, что сначала должно быть обдумывание и принятие решения (boyleysasthai), а затем, когда после обдумывания мы что-то сочтем за лучшее, возникает стремление к действию, и, совершая это действие, мы, по-видимому, поступаем согласно своему выбору.
И вот, если выбор – это некое стремление, соединенное с обдумыванием и решением, то добровольное не тождественно выбору. В самом деле, многое мы делаем добровольно, не успев подумать и принять решение, например садимся, встаем и много подобного делаем добровольно38 без обдумывания, тогда как все делаемое по выбору связано с обдумыванием. Значит, добровольное не совпадает с выбором. Наоборот, выбор всегда доброволен: решившись действовать, как избрали, мы поступаем добровольно. В редких случаях даже и законодатели отличают добровольное от намеренно избранного и за добровольное полагают меньшее наказание, чем за совершенное по свободному выбору.
Выбор имеет место там, где совершается действие, и совершается так, что от нас зависит, делать дело или не делать, делать его одним способом или другим и, где бывает возможно, установить причину действия. Причина понимается неоднозначно. В геометрии на вопрос о причине, почему в четырехугольнике углы равны четырем прямым, отвечают: потому что и в треугольнике углы равны двум прямым. В таких случаях мы находим причину в установленном первоначале (archēs horismenēs)39. Но при действиях, совершаемых по выбору, дело обстоит иначе (тут ведь нет никакого установленного первоначала); здесь на вопрос: почему ты поступил так? – отвечают: потому что нельзя было иначе, или: потому что так лучше. Исходя из самих обстоятельств, выбирают то, что кажется лучшим, и ради лучшего.
Именно поэтому в подобных случаях и возможно обсуждение того, как надо [поступать], а в науках – нет. Никто не обсуждает, как писать имя Архикл, потому что существует установленное правило, как надо писать имя Архикл. Ошибка тут случается не при обдумывании, а в самом действии письма. Где не может быть ошибки при обдумывании, там не принимается и решений. Там же, где не установлено, как надо [поступать], возможна ошибка40. Установленных правил нет в поступках и действиях, в которых возможны ошибки двух родов. Ошибки в поступках и действиях те же, что и в стремлении к добродетели. Когда мы стремимся к добродетели, мы впадаем в ошибки, уступая своим врожденным склонностям, причем ошибка может быть как в сторону недостатка, так и в сторону избытка. К тому и другому влекут нас удовольствие и страдание (hēdonēn kai lyрēn). Ради удовольствия мы делаем недостойные вещи, а избегая страдания, уклоняемся от хорошего.
18. Еще. Разум (dianoia) не подобен чувству. Скажем, зрение дает возможность только видеть, слух – только слышать; ничего другого с их помощью сделать нельзя. И мы не обсуждаем (boyleyometha) того, следует ли нам нашим слухом слушать или смотреть. Разум не таков: он может делать что-то одно, но вместе с тем и другое, поэтому в нем уже уместно обсуждение41.
Ошибка при выборе благ тоже касается не целей (ведь все согласны, что здоровье, к примеру, – это благо), а вещей, которые ведут к цели, например, хорошо ли для здоровья съесть вот это или нет. Ошибаться в таких случаях чаще всего заставляет удовольствие или неудовольствие, поскольку второго мы избегаем, первое избираем.
После того как мы разобрались, в чем именно и как может произойти ошибка, остается спросить, на что направлена добродетель: на цель или на то, что ведет к цели, например на прекрасное или на то, чем прекрасное достигается. Как обстоит дело в науке? В том ли дело строительной науки, чтобы хорошо поставить цель, или в том, чтобы увидеть то, что ведет к цели? [Первое]; но если цель хорошо поставлена – например, сделать прекрасный дом, – то и нужное для нее и найдет, и сделает не кто иной, как строитель. Во всех других науках дело обстоит подобным образом.
Это, по-видимому, относится и к добродетели. Ее задача в большей мере цель, которую надо правильно поставить, чем то, что ведет к цели; но создаст для нее все условия и найдет все необходимое тоже не кто иной, [как добродетельный].
И разумно думать, что именно дело добродетели – ставить цель. Всякая вещь, заключающая высшее начало, сама ставит цель и осуществляет ее42. Но выше добродетели нет ничего, ради нее и все прочее; и первоначало в ней, и средства существуют по большей части ради [нее как цели]. Цель подобна как бы первоначалу, и всякая вещь существует ради нее. Так, впрочем, и должно быть. Словом, и в добродетели, коль скоро она высшая причина, дело обстоит явно так же, [как в науке]: она устремлена больше к цели, чем к вещам, ведущим к цели.
19. Цель добродетели – прекрасное (to kalon), причем она больше устремлена к нему, чем к его составным частям. Правда, и они имеют к ней отношение, но нелепо [думать, будто только они]. Это все равно как в живописи можно быть хорошим изобразителем, однако едва ли такого будут хвалить, если он не поставит своей целью подражать самым лучшим [предметам]. Таким образом, непременное дело добродетели – ставить прекрасные цели. Почему же, могут нам возразить, сперва мы говорили, что деятельность лучше обладания, а теперь приписываем добродетели в качестве ее прекраснейшей черты не то, откуда проистекает деятельность, а то, в чем нет деятельности? Да, но и теперь мы все равно утверждаем, что деятельность лучше обладания. В самом деле, наблюдая за достойным человеком, судят о нем по его делам, поскольку [иначе] невозможно обнаружить, какому выбору он следовал. А если бы можно было видеть совесть (gnōmē)43 человека и его стремление к прекрасному, то его сочли бы добродетельным и без дел.
Раз уж мы перечислили некоторые срединные состояния чувств, надо сказать, о каких чувствах (pathon) идет речь.
20. Если мужество соотносится с дерзкой самоуверенностью и со страхами, то надо рассмотреть, с какими именно страхами и с какой самоуверенностью. Скажем, человек страшится потерять имущество (oysian)44, труслив ли он? А если он не боится таких вещей, мужествен ли он? Или, скорее, нет? Все равно как, если кто боится болезни или, наоборот, безрассудно уверен в себе, нельзя утверждать, что боязливый здесь трус, а небоязливый мужествен. Стало быть, мужество заключается не в таких страхах и дерзаниях. Но и не в таких, когда кто не боится грома, молнии или еще чего-нибудь сверхчеловеческого45 и страшного. Он тогда не мужественный, а какой-то безумец (mainomenos). Итак, мужество обнаруживается в страхах и дерзаниях, соразмерных человеку. Скажем, если кто среди вещей, которых многие или все боятся, бывает отважен, тот мужествен.
Проведя это разграничение, можно рассмотреть, какой человек мужествен в том смысле, что люди бывают мужественны по многим причинам. Бывает, что человек мужествен благодаря опыту, как, например, воины: они знают, что в таком-то месте, или в такое-то время, или при таком-то поведении ничего плохого не случится. Знающий это и потому выдерживающий врага не мужествен, ведь, если бы этого не было, он не выдержал бы46. Не следует поэтому называть мужественными мужественных благодаря опыту. И конечно, Сократ был не прав, когда называл мужество знанием: знание становится наукой, когда от привычки приобретает опыт, а тех, кто благодаря опыту47 выдерживает [натиск], мы не называем да и никто не назовет мужественными. Стало быть, мужество не наука. Опять-таки есть люди, ведущие себя мужественно по неопытности: кто не знает по опыту, чем кончится дело, тот не испытывает страха по причине своей неопытности. Таких тоже нельзя называть мужественными. Другие кажутся мужественными из-за своих страстей (pathē), например влюбленные (erōntes) или объятые вдохновением (enthoysiadzontes)48. Но и их нельзя назвать мужественными; ведь, если у них отнять их страсть, они перестанут быть мужественными, мужественный же должен всегда быть мужественным. Недаром про животных не говорят, что они мужественны, например про свиней, если они отбиваются49, когда их больно бьют; и человека мужественного в страсти тоже не следует считать мужественным.
Существует еще и иное мужество, как бы гражданское (politikē), когда, к примеру, люди выносят опасность из стыда перед согражданами и кажутся мужественными. Вот образец этого. Гомер изобразил Гектора говорящим: «Первый Полидамас на меня укоризны положит»50; Гектор думает поэтому, что надо идти в бой. Но и это нельзя называть мужеством. Для всех таких случаев подойдет одно и то же разграничение (diorismos): если мужество пропадает, когда человек лишается чего-либо, то он едва ли мужествен; в самом деле, если устранить стыд, благодаря которому он стал мужественным, то он перестанет быть мужественным.
Кажутся мужественными еще и другие, те, кто мужествен в надежде на добро и ожидании его. Их, однако, тоже нельзя называть мужественными, поскольку нелепо называть мужественными тех, кто делается мужественным в зависимости от обстоятельств.
Итак, нельзя признать мужественным никого из таких людей. Тогда надо исследовать, в чем состоит мужество и какой человек мужествен. Собственно (hōs haplōs) говоря, мужествен тот, кто мужествен не в силу чего-либо из вышеперечисленного, а потому, что считает мужество благом и действует мужественно независимо от того, присутствует кто-либо при этом или не присутствует. Но, конечно, мужество не бывает вовсе без страсти и порыва. Только этот порыв должен исходить от разума и быть устремлен к прекрасному. Кто осмысленно (dia logon) устремляется ради добра (kaloy) в опасность и не боится ее, тот мужествен, и в этом мужество. «Не боится» [я говорю не в том смысле], что мужественный вовсе не испытывает страха. Не тот мужественный, кому вообще ничто не страшно, – тогда мужественны были бы камень и прочие неодушевленные предметы; нет, мужественный непременно боится, но стоит твердо (hypomenein). А если человек тверд, не испытывая страха, его не назовешь мужественным.