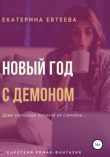Текст книги "Он, она и солнце (СИ)"
Автор книги: Anna von Megenberg
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
========== Часть 1 ==========
Над городом, окутанным серо-сизым пологом смога, разгорался рассвет.
Рассвет был зимним, поздним и холодным, и тем неожиданнее была его внезапная ослепительная оранжево-красная яркость. Вторая декада января принесла с собой двадцатипятиградусные морозы, превратившие дыхание города в неподвижные плотные облака. Огромное солнце тяжко ползло в морозную высь, окрашивая их в золото и киноварь.
Розовые лучи скользнули сквозь грязноватое окно квартиры на последнем этаже блочной девятиэтажки, осветив единственную комнату и царивший внутри беспорядок. Возле шкафа с одной распахнутой дверцей в беспорядке валялась одежда, как будто хозяева готовились к поспешному бегству. На краю подоконника шатко пристроились два стакана и раскупоренная бутылка из-под вина. Преломлявшиеся в её стекле солнечные лучи рассеивали вокруг зелёные блики. На полу возле балконной двери стояла ополовиненная бутылка самого дешёвого дагестанского коньяка, и тут же рядом валялись два или три пузырька из-под неизвестных лекарств. Ещё несколько таких пузырьков стояли на старой, некогда полированной тумбочке, царапины на которой были, однако, аккуратно замазаны йодом. Кроме пузырьков, на тумбочке были в беспорядке навалены тетради, картонные упаковки из-под таблеток – все, как одна, вскрытые – и ещё почему-то толстый оксфордский словарь английского языка.
На разложенном диване, укрытые одной на двоих измятой белой простынёй, лежали двое.
Мужчина покоился на спине, сложив на груди сильные руки с сухими верёвками мускулов и проступающими сквозь смуглую кожу голубоватыми линиями вен. Худощавое, гибкое тело было телом атлета, созданным для физического труда, спорта и бега, лицо – лицом архангела с тонкими, почти иконописными линиями. Совсем молодой, он казался бы ещё моложе, если бы не тревожная складка между бровей и зубы, сжатые даже в покое. Всё это вместе с впалостью щёк и резко обозначившимися яминами у висков превращало архангельский лик в лицо аскета.
Молочно-белая кожа девушки выглядела настолько нежной, что казалось, на ней вот-вот оставит ожоги позолотившее её ласковое утреннее солнце. Лучи его без малейшего стеснения скользили по аккуратным перламутрово-розовым кружочкам сосков, по обнажённой груди, неожиданно спелой и налитой для хрупкого тонкокостного тела. Маленькая рука придерживала простыню на животе, мягкая линия которого выступала вперёд плавным полукругом.
Три месяца назад это было не так очевидно – но всё-таки достаточно заметно, чтобы довести мать до очередного приступа ярости.
– Шалава! Подстилка! Проблядь вокзальная! – орала она с побелевшими от ненависти глазами и хлестала наотмашь старым сыромятным ремнём – вслепую, куда попадёт. – Опозорила семью, сука! Чтоб у тебя кровь твоя гнилая лилась изо рта и из промежности! Иди сюда, тварь, я этого выблядка из тебя голыми руками вытащу!
Мать бесновалась, временами срываясь на хрип, а она бегала от неё по квартире, натыкаясь на мебель и пытаясь уберечь хотя бы лицо и живот от ударов ремня, с тяжёлым свистом вспарывавшего воздух. Чудом улучив момент, она выскочила в прихожую, рванула с крючка своё драповое пальтишко – ткань жалобно затрещала – и в домашних тапочках выскочила на лестничную клетку. Дожидаться лифта было долго, и она побежала вниз пешком, боясь обернуться и слыша над собой крики матери, которым вторило гулкое подъездное эхо:
– Не смей возвращаться, тварь порченая! Будь ты проклята за блядство своё! Будь ты проклята!
Тогда была ещё осень, и драп надёжно защищал тело от холода, но ноги в тапочках буквально окоченели и стреляли острой режущей болью, когда она с силой надавила на западающую кнопку звонка возле обитой потрескавшимся коричневым дерматином старой двери.
Он открыл почти сразу.
– Ты?..
Он осёкся, заметив её непокрытую голову, и ночную рубашку, видневшуюся из-под пальто, и синие от холода голые ступни, и объяснять ему ничего не пришлось – к счастью, потому что её трясло и колотило так, что она не могла произнести ни одного слова из-за дробно стучащих зубов. Он отвёл её в ванную, сам раздел и пустил из душа почти крутой кипяток, а потом завернул её в одеяло и на руках отнёс в комнату на диван. Только когда он присел рядом на краешек, держа в руках чашку, из которой поднимался пар, она уткнулась ему в плечо и разрыдалась – беззвучно, истерически, до спазмов в горле.
– Тебя выселят…
– Не выселят. Я с хозяйкой поговорю.
– Она не согласится…
– Никуда она не денется. В крайнем случае – задерёт плату.
– А мы потянем? Скажи честно – потянем?
Он успокаивал её, пока она не заснула после второй кружки чая с валерьянкой, а сам ещё долго лежал, уставясь в потолок бессонными глазами. Потом встал, нашарил на вешалке куртку, стараясь производить при этом как можно меньше шума, крадучись вышел на незастеклённый балкон и несколько раз щёлкнул зажигалкой.
Кончик сигареты затлел алым, и он с наслаждением втянул в лёгкие сулившие успокоение пары никотина. В последнее время он стал много курить – от усталости, наверное, да и нервы ни к чёрту.
Как же осточертело, как же немыслимо, до ломоты в костях осточертело ему всю жизнь тянуть на себе ответственность за других! Началось всё с матери, сначала, после ухода отца, рыдавшей дни напролёт, потом проклинавшей всех и вся, уставившись в стенку невидящим взглядом, а потом попытавшейся наложить на себя руки. Он хорошо помнил тот день. Из школы он вернулся раньше обычного и застал мать в тот самый момент, когда она неумело прилаживала к люстре бельевую верёвку.
Потом появился отчим. Потом он запил, а вместе с ним и мать. Отчётливее всего из этого времени помнилось одно – что по утрам, уходя в школу, неизменно приходилось перешагивать через отчимовы волосатые ноги, потому что он имел привычку засыпать спьяну прямо на полу. Потом, после девятого класса, был слесарный колледж и небольшая стипендия, почти вся уходившая этим двоим на опохмелку, а потом стукнуло восемнадцать и была армия. Ну а потом, после армии, была работа в автосервисе и – наконец-то – первое жильё, снятое за собственные деньги, которое не надо было ни с кем делить. И была рутина – работа, дом, опять работа, изредка – встречи с приятелями по выходным или после смены. И съеденные этой рутиной не то пять, не то шесть лет – он и сам не мог вспомнить, потому что один год был в своей серости неотличим от другого.
А потом возникла она. Он увидел её в вагоне метро, когда возвращался со смены. Она зашла на Университете, перехватила его взгляд – и почти сразу отвела глаза в сторону, потом посмотрела ещё раз – строго и с осуждением, а потом снова – уже с любопытством. На Библиотеке имени Ленина она вышла, и он тоже, хотя ему было ещё ехать добрых три станции. Она обернулась, словно желая убедиться, что он никуда не делся, передёрнула узкими плечами и гордо зашагала в сторону перехода на Александровский сад.
У лестницы он её догнал. Потом она призналась, что специально тогда остановилась, чтобы дождаться его.
Затем были несколько безоблачных месяцев, а потом она пришла к нему домой и без обиняков заявила, что у неё задержка и что она уже была у врача. Он остолбенел, сражённый новостью, а она вдруг затряслась и упала на диван, в истерике хватая воздух распяленным ртом. Он совал ей стакан с холодной водой, а она отталкивала его руку и кричала, что мать её убьёт, задушит, если узнает, а узнает она обязательно. Она билась и кричала, а он цепенел от собственного бессилия, потому что уже успел к этому времени своими глазами повидать чёрные, цвета черничного варенья кровоподтёки на её теле – её тоненьком хрупком теле, которому он сам больше всего на свете боялся причинить боль неосторожным движением.
Постепенно она успокоилась и всё ещё сдавленным от слёз голосом сказала, что пойдёт на аборт, но ей нужны деньги. Но он сел тогда рядом с ней, взял её руки в свои и стал просить ещё немного подумать. Она может перейти жить к нему. Денег он заработает. Возьмёт двойные смены, да и по выходным всегда подхалтурить можно. Пусть она поживёт ещё немного у матери – честное слово, совсем немного, пока ещё ничего не заметно – а он за это время подкопит деньжат и подыщет жильё, потому что не растить же, в самом деле, ребёнка в этом клоповнике. Она слушала и кивала, хотя подбородок её время от времени ещё сводило судорогой. Потом он проводил её домой. В восемь вечера наступал комендантский час, установленный её матерью.
До поры до времени всё шло хорошо. Он и в самом деле набрал себе в автосервисе двойные смены и стал получать хорошие деньги – правда, и уставал теперь как собака. Спина, и раньше поднывавшая к концу дня, теперь не проходила вообще, и он стал пачками скупать в аптеках обезболивающие. Первую таблетку он принимал теперь прямо с утра, как только открывал глаза – даже раньше, чем вставал с постели. Но всё это было неважно, главное, что на карточке росла отложенная на будущее сумма. Слава богу, каких-то существенных расходов не предвиделось ещё как минимум пару месяцев – живот у неё был почти совершенно плоским, и мать, по её словам, ни о чём не догадывалась. С жильём тоже подфартило – через знакомых удалось выйти на парня, уезжавшего через полгода в командировку, куда-то далеко и надолго – в детали он не вникал. Главное было, что этот парень готов был пустить их пожить в свою квартиру и не брать за это денег – требовалось только оплачивать воду и электричество. Одним словом, жизнь потихоньку налаживалась.
И тут её мать угораздило услышать, как её с утра тошнит в туалете – и своим обострённым, как у всех параноиков, чутьём та сразу же обо всём догадалась.
Когда он увидел её у себя на пороге – трясущуюся, босую, в пальто почти на голое тело – первым порывом было согреть её и защитить, укрыть собой от всего мира, вторым – пойти и убить её мать, эту озверевшую суку, а третьим – выругаться матом, в три наката и с переборами. Против воли на него накатила такая досада и злость, что руки сами сжимались в кулаки. Клуша ты всё-таки, от тебя только одно требовалось – не сдать себя с потрохами ещё какой-то месячишко, а ты и этого не смогла?!
От этих мыслей в нём снова поднялся гнев. Свободной от сигареты рукой он саданул с досады по хлипким перилам балкона, но тут же в испуге обернулся – не разбудил ли? Злость испарилась так же внезапно, как и накатила, и вместо неё к сердцу подступило раскаяние и щемящая нежность, острее которой была только вновь напомнившая о себе боль в спине.
Ложась в тот вечер в постель, он принял сразу три таблетки обезболивающего.
Тогда-то у него и появилась глубокая, острая, как залом, складка между бровей и морщина возле уголка рта.
Хозяйка квартиры, ясное дело, устроила скандал, а отскандалив, выставила цену ровно в два раза больше предыдущей.
– Да за эти деньги особняк на Рублёвке снять можно, – попытался усовестить он обнаглевшую бабу.
– Вот и снимай, раз такой умный, – подбоченилась та, – не нравится – я тебя не держу!
Жалкие накопления растаяли стремительно, как снег в апреле. Она, конечно, всё видела. Изводила себя беспрестанно, а потом нашла работу – какие-то курсы для школьников, чтобы готовить их к экзаменам. Возвращалась она теперь не раньше девяти вечера, а по ночам ещё пыталась писать диплом. Нервная, с кругами под глазами, она осунулась и похудела – только живот рос, но всё равно был ещё почти незаметным.
Но он, честно говоря, этого почти не замечал. Он вообще мало что замечал в последнее время. Аптечные лёгкие обезболивающие перестали помогать, и он не мог теперь спать по ночам. Врачей он не любил и не доверял им, и поход в поликлинику оттягивал до последнего, но тут уже прижало настолько основательно, что тянуть больше было нельзя.
Уже потом, лёжа без сна которую ночь подряд, он говорил себе, что догадывался с самого начала. Подозревал с того самого момента, когда его впервые скрутила эта лютая, ни на что не похожая боль. Подозрение превратилось почти в уверенность, когда он увидел, как забегали вдруг врачи – не говоря ничего конкретного, но бросая на него какие-то по-особому сочувственные взгляды. Ну конечно же, он знал. Наверное, поэтому остался так спокоен, когда немолодая врачиха в очередном, уже сотом, наверное, кабинете наконец-то назвала вещи своими именами.
Он бесстрастно посмотрел ей в глаза и задал один-единственный вопрос:
– Сколько?
Она залопотала что-то про статистику, про новые препараты, про то, что можно попробовать лучевую терапию, но наткнулась на его взгляд – и тихо призналась:
– Год. Может быть, полтора.
Ей он сказал в тот же вечер, и это было куда тяжелее, чем услышать всё самому. Она, конечно, заплакала. Он обнял её. Она вытерла слёзы и сказала, что будет бороться. Чтобы он не смел отказываться от химии. Что врачи могут ошибаться насчёт полутора лет. Что у неё есть знакомые, которых можно попросить…
Он слушал всё это, как музыку, как сказку на ночь, сидя на кухонном табурете, прислонясь головой к стене с отслоившимися обоями и закрыв глаза. Сегодня ему наконец-то выписали два рецепта – на обезболивающее и на снотворное, и теперь ему казалось, что из спины выдернули осиновый кол.
Боль отступила, но силы уходили стремительно, как вода из прохудившегося бака. Совсем скоро он не мог уже работать не только в двойную, но и в обычную смену. Она выбивалась из сил, но денег катастрофически не хватало. Под зеркалом в прихожей росла стопка неоплаченных счетов, зато холодильник был девственно пуст, не считая кастрюльки с гречкой и нескольких сморщенных картофелин в овощном ящике. По ночам он засыпал, приняв таблетку снотворного и чувствуя сквозь подступающее забытье, как она обнимает его своими тонкими, слабыми руками – слишком слабыми, чтобы бороться за жизнь, чтобы переломить ей хребет и растолкать всех со своего пути.
Кончилось всё вполне ожидаемо – визитом квартирной хозяйки. Он лежал в комнате на диване. Дверь открыла она. Визгливый голос скандальной бабы наполнил прихожую. Совсем стыд потеряли! Они считают, у неё здесь что, богадельня? Она Христа ради не подаёт! И за «спасибо» никого держать не собирается!
Она что-то растерянно лепетала в ответ. Кажется, оправдывалась. Тогда он поднялся с дивана и вышел в прихожую сам. От слабости его пошатнуло. Хозяйка увидела это и рассвирепела окончательно: на ногах не стоишь, алкашня паршивая! Кажется, именно это она ему кричала, ну или что-то в этом роде. Он не спорил. От хозяйкиных воплей звенело в ушах и болела голова. Откричавшись, хозяйка выдвинула ультиматум: чтобы через три дня ноги их в квартире не было.
Она стала хватать озлобленную тётку за руки. Та руки вырвала, брезгливо, как у заразной. Тогда она упала на колени. Он бросился её понимать, кричал, чтобы не унижалась, что пошло оно всё к чёртовой матери…
В конце концов удалось сторговаться на неделе. В эту самую неделю она, собрав последние гроши, всё-таки заставила его пойти к «знакомым» – какому-то кандидату наук. Кандидат наук поскрёб в затылке и сказал, что насчёт полутора лет его коллеги и в самом деле ошиблись. С такой картиной – от силы шесть месяцев.
На этот раз ей и пересказывать ничего не пришлось – на приём к знакомому кандидату она пошла вместе с ним.
Вечером, раздавленные вердиктом, они бок о бок сидели на диване, глядя прямо перед собой. На следующий день истекал срок ультиматума, предъявленного хозяйкой.
Он перехватил её взгляд, задержавшийся на стянутых резинкой облатках снотворного на тумбочке. Закричал:
– Не смей!
Она засмеялась – без эмоций, одним горлом. Он прижал её к себе, чувствуя, как худенькое тело сотрясается от этих судорожных звуков – один на вдохе, один на выдохе – и зашептал:
– Не надо… ну пожалуйста, не надо…
Она, кажется, всё-таки заплакала. Он помнил, как стирал соленые капли с её лица. Потом она поднялась и сказала, что пойдёт в магазин. Вскоре вернулась, и они пили купленное ею на последние деньги вино – почему-то не чокаясь.
– У нас ведь ещё коньяк есть, – вдруг вспомнил он, когда вино кончилось.
И она снова засмеялась, но теперь уже своим обычным, живым смехом.
Полоса рассвета постепенно ширилась. Пальцы-лучи всё настойчивей ласкали обоих лежащих, уже касаясь ключиц. Нежаркое солнце, поднимаясь всё выше, поцеловало его в гордую сильную шею, а её, осмелев, прямо во вспыхнувшие кармином нежные губы.
В этот момент в дверь раздался долгий и требовательный звонок.
– Так и знала, что не откроют, сволочи! – послышалось сразу же вслед за звонком. – Ломай дверь, ребята!
Хилая деревяшка с громким треском поддалась и рухнула внутрь. Хозяйка ринулась в квартиру, точно почуявший добычу сеттер. Двое парней в форме деликатно остановились на пороге.
– Ну что, говорила я вам… – послышался из комнаты торжествующий голос хозяйки, тут же перешедший в оглушительный визг.
Полицейские действовали слаженно. Пока один уводил ополоумевшую от испуга женщину в кухню, второй осторожно, чтобы не сдвинуть ни одной вещи, прошёлся по комнате и склонился над ворохом пустых облаток на тумбочке.
– Снотворное… ну понятно. Слышь, Серёг, медиков вызывай! – крикнул он напарнику в кухню. – Для проформы всё равно надо.
Будто услышав его слова, солнце отчаянно вспыхнуло в оконном стекле и на несколько секунд затеплило в неподвижных лицах огонёк живой, подгоняемой сердцем крови – но вскоре померкло, словно осознав своё бессилие, и отступилось, лишь одарив её и его на прощание смиренным поцелуем в лоб.