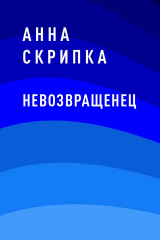
Текст книги "Невозвращенец"
Автор книги: Анна Скрипка
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Т-с-с, не плач, Наденька. Нам больше не надо возвращаться, всё позади. Как бы я тебя оставил? – крепче прижимая меня к себе, говорил он.
– Уже раз оставил. Я тебе не нужна.
– Милая, никто никому не нужен. И мы с этим ничего не в силах сделать.
– Я знаю. Но… ты был мне нужен.
– Я знаю. Я бы не приехал, если б был не нужен.
– Зачем? Ведь я для тебя – лишний груз.
– Все чувства взаимны. Если б ты мне была не нужна, ты бы тоже во мне не нуждалась. Понимаешь, нужна, даже немного больше, чем я тебе. Намного больше. – Игорь по-отцовски поцеловал меня в волосы, а потом задумчиво выдал: – какой же у тебя бардак в голове…
Я тихонько усмехнулась.
– Маленькая ты ещё и глупенькая. – Он, как кот, потёрся давненько небритой щекой о моё лицо, ухо и шею, чмокнул в щёку, обнял ещё крепче – счастливая у него девушка будет, обласканная, облелеянная, обцелованная.
– Ты больно взрослый, – с детским возмущением проворчала я, закрывая глаза – они сами закрывались от слёз и усталости.
– Да… совсем не взрослый, – согласился он, и было слышно по голосу – он умилённо улыбается. – Тоже маленький и глупенький.
Сквозь мои волосы почувствовалось его горячее дыхание возле уха – я знаю, он соскучился, причём по моему запаху, наверно, даже больше, чем по мне самой. Эгоист – нечего сказать, но честный, не считающий себя великим героем и не требующий похвалы за оказанные услуги. Эгоисты – все, но далеко не все способны это признать. И далеко не все способны мириться с эгоизмом чужим. Что ж… это их проблемы.
И вдруг я поняла, что засыпаю прямо так, уткнувшись Игорю в шею, склонившись над коробкой передач – знаете, совсем неудобно склонившись, но мне стало так хорошо и свободно. Я вообще не могу спать, не убедившись в полной безопасности и в том, что мне комфортно, а сейчас сон одолевал меня подобно обмороку. Безопасность? Комфорт? Да, с Игорем я всегда чувствовала себя комфортно и в безопасности – и тут уже неважно, где я и в каком положении. Он всегда меня защищал, даже когда его не было рядом, и… да, как усыплял этот запах. Запах, пропитанный насквозь этой ненавистной пьянящей свободой и машинным маслом, отдающий отваром из гвоздики и бензином. Наверно, этот запах уже навечно вплёлся в мою память.
Всё.
Нам больше некуда спешить.
У нас больше нет дома.
Семьи.
Обязанностей и должников.
Вы когда-нибудь прощали всех? Вряд ли. Возможно, вам так казалось. Но сегодня я искренне отпустила весь мир. И он, наверно, тоже меня отпустил.
Из-за предрассветных лучей, исходящих от небес, покрытых с востока ватной пеленой снеговых туч, и самого снега, такого безмятежно сверкающего, томного, казалось, что лес пребывал в иссиня-серой дымке. Даже река двигалась почти бесшумно. Чёрная вода не поблёскивала и не журчала, как весной или летом, а текла медленно и умиротворённо. Обледеневшие берега и голые ветви, сине-коричневые, уснувшие на время от холодов, – всё было твёрдое, ледяное, холодное, бесчувственное, но честное. Зима не врёт о том, что она тебя согреет – за это её и любят, за то, что она не врёт.
Кое-где к бережкам приставали прозрачные острые льдинки – почему-то они всегда напоминали мне шоколад. Над глубокой рекой склонились мрачновато-неподвижные деревья – ни дуновения, ни вдоха, ни выдоха – нет ветра.
Скрипящий под босыми ногами снег, словно хрустальный пух, перламутровые кристаллы, ломающиеся под моей тяжестью. Казалось, что ноги тают вместе со снежинками: пальцы и ступни покалывало – и вовсе не от рельефа закоченелой почвы. Тело пребывало в очень неопределённом состоянии. Даже мурашки не появлялись. Я прекрасно осознавала, какой сегодня холод, осознавала разумом, но мне было тепло. Уж слишком мои понятия «тепло» и «холодно» зависимы от понятий «хорошо» и «плохо». Мне было хорошо, а поэтому я абсолютно комфортно себя чувствовала и так: стоя при морозе обнажённой на берегу еле движущейся, еле журчащей реки. Знал бы кто, какое это блаженство, знал бы, насколько приветлива река, когда она ещё не знакома с человеческой сущностью. Я для неё – такое же природное, чистое и честное создание, как птица, живущая в этих лесах. Создание, не способное причинить вред. Создание не человеческое, не злое, не замкнутое, с душой наизнанку. Собственно, сейчас я таковой и являлась: ничего от людского мира, я естественна – и этим прекрасна. Распущенные волосы немного щекотали спину, мягко касались плеч, ключиц, груди и живота, спускаясь тёмно-русыми прямыми прядями немного ниже пояса, растрёпанные, расчёсанные аж прошлым вечером. Несколько сиреневых синяков на белых ногах, так давно не знавших летнего солнца; пара царапин на левой коленке – я не замечаю, когда успеваю ударяться. Я чувствовала себя духом, нимфой, я – настоящая, ничего не скрывающая, лишённая тайн, как своих, так и чужих, и ничего во мне не было искусственного: ни косметики, ни серёжек, ни лака в волосах, ни колец, ни других украшений, – ничего – даже одежды…
И я бесшумно ступила навстречу тёмной прозрачной воде по хрустящим шоколадным берегам. Вдохнула поглубже. В такие моменты нельзя трогать воду – она тогда покажется слишком холодной и ты не сможешь себя пересилить и в неё окунуться. Заходить надо быстро, чтобы разум и очнуться не успел, чтобы не успел понять, что ты творишь. И я резко и целеустремлённо направилась вперёд, шаг за шагом погружаясь в неимоверно ледяную воду. Мгновенно исчезло тело – я его чувствовала лишь из-за колющего холода; дыхание отшибло, даже появилось ощущение удушья, но, нырнув в реку с головой, я сразу же оказалась на берегу. Я снова существую, я снова вместе с телом! По сравнению с зимней речкой воздух показался горячим, а земля приобрела некое подобие пола с подогревом, хотя несколько секунд назад была не теплее камня. Вместе с обжигающе-холодной водой все дурные мысли и невысказанные обиды утекли вниз по течению бесформенной, ни во что не воплощённой массой. Вся тяжесть прошлого, все необдуманные и не успевшие побудить никаких действий эмоции исчезли, утонули в прозрачно-тёмной реке. Ты словно возрождаешься из пепла, как птица феникс, ты словно начинаешь всё сначала, это новая жизнь без откладывания её на «завтра», это новая жизнь, которая начинается сегодня. Ты – разрисованная раскраска, разгаданный кроссворд, выученная наизусть проза, просто вещь, столько раз использованная, но уже забытая, исчерпавшая свою надобность. Но эти неприятные ощущения остаются в реке, утекают в испепеляюще-холодной воде. Ты чувствуешь, что у тебя отобрали все эмоции – абсолютно все: и пустые обиды, и разочарования, и стыд, и боль от расставаний, и радость, и дружбу, и любовь – но разве отобрали?.. Не отобрали, а освободили. Я – белый лист бумаги, новый холст, на котором жизнь вновь будет создавать свои шедевры, писать свои замысловатые картины. Я чувствовала себя лишённой абсолютно всего, что у меня было, но и в то же время освобождённой от тяжёлой ноши прошлого. Оно – прошлое – мне больше не хозяин и не судья, я теперь создаю другое прошлое, обязанное воплотиться в настоящее в самом скором времени.
Вернувшись к поляне со склонившимися над ней ветвями заснувших деревьев, где я оставила полотенце, я быстро укуталась в него – сейчас для тепла этого было больше, чем достаточно. Да и не хотелось вовсе одеваться, не хотелось прятать всю природную грацию нагого тела в клетке одежд.
– Ты похудела. Тебе килограмма четыре набрать на помешало бы, – произнёс с серьёзностью в голосе Игорь, когда я, укутанная в полотенце, присела рядом с ним на капот машины, застеленный плотным цветным покрывалом.
Я ему ничего не ответила. А что я могла сказать? Вряд ли в нашем путешествии мы будем полноценно и плотно питаться и я наберу те самые четыре килограмма. Да и к тому же не очень хотелось разговаривать.
– Может, лучше оденешься?
Я безэмоционально посмотрела на Игоря, недавно, как и я, искупавшегося в речке. На нём самом были только джинсы и берцы, и сам он, похоже, одеваться не торопился.
– Тебя смущает мой вид? – без улыбки пошутила я. – Или сброшенные четыре кило?
– Да не особо, – хмыкнул он, – не лето всё же, деточка, блин.
– На себя посмотри, – умиротворённо посоветовала я, – сам тут с голым торсом гуляешь, а мне что, нельзя? – спокойно спросила я без капли возмущения – для гнева и эмоций я была слишком счастливой.
– Ходи на здоровье, – усмехнулся тихо Игорь. – Не впервой. Главное, чтоб и вправду на здоровье.
Я набрала в лёгкие побольше морозного приятного воздуха – он блаженный, этот воздух… Закрыла на минуту глаза, буквально растворяясь в атмосфере, царящей в этом лесу. Вздохнула ещё раз – никогда раньше мне не дышалось так легко, как сегодня: ни при летнем зное и отдыхе на море, ни при осеннем дожде, ни после поцелуев и объятий. Не знаю, наверно, я совсем неправильное существо. А впрочем, неважно. Полотенце незамедлительно соскользнуло с моих плеч – оно было мокрое и уже немного меня остужало.
Игорь протянул мне чашечку от термоса с горячим чаем.
– Хочешь?
– Давай, – согласилась я и взяла у него кружку. – И всё же. Куда мы направляемся?
Меня абсолютно не волновал и не мучил этот вопрос, скорее, интересовал. Мне не нужен был ответ, мне нужно было удовлетворить любопытство.
– На север. Будем заезжать в города, в посёлки… Где понравится, там и останемся.
– Хорошо, – ещё раз вздохнула я, выпив немного чаю.
От такого горячего напитка горло приятно обожгло, а запах возбудил какие-то смутные воспоминания: мята, ромашка, сотни километров под нами, простирающиеся резким обрывом над затуманенным городом, апрельские руки, обнимающие меня ароматом цветущей вишни. В такие моменты я засыпала от удовольствия прямо на земле, раскинув руки в стороны и чувствуя под пальцами прохладные травы и землю. Такого больше никогда не будет, но будет лучше: в самый разгар весны когда-нибудь я вновь засну под пение тёплых ветров на ещё одном краю света, засну без снов, без мыслей, но это уже будут другие эмоции, ведь в этом мире ровным счётом ничего не повторяется.
– Ты псих. По сути, ты даже не представляешь, на что обрёк нас обоих.
– Ты псих, – так же равнодушно ответил друг. – Ты даже не представляешь, как глупо ты поступила, решив поехать со мной. Заметь, выбор у тебя был.
Я молча положила голову ему на плечо. Даже на морозе обнажённый по пояс Игорь был тёплый. В отличии от меня. Я уже совсем скоро замёрзну, моё тело не настолько адаптировано к морозу.
– Я знаю. Но оставаться там я больше не могла. В толпе похожих друг на друга людей я чувствую себя незащищённой. Просто замученной, как медведь в цирке. Как какой-то инопланетянин, попавший случайно на землю. Знаешь, я бы сказала, что просто среди них чувствую себя голой, но, – я усмехнулась, – меня обычно не смущает, когда я голая.
– Я заметил, – иронично изрёк друг.
– Я там лишняя. Я там без доспехов, без щита и меча, я ведь не могу противостоять всему миру. По крайней мере, одна. И вот стою я без доспехов, совершенно незащищённая, против целой армии людей, спрятавших лица за забралами, и просто не знаю, плакать мне или смеяться от безысходности. А с тобой… а с тобой я могу повернуться к этой армии спиной и смотреть на тебя.
– Но ты ведь и так можешь повернуться к ним всем спиной.
– Нет, не могу. Ты же знаешь, сзади тебя всегда находится прошлое, к которому нельзя возвращаться. А когда я становлюсь к тебе лицом, автоматически делаю тебя своим будущим и оставляю всех этих вооружённых людей за спиной, то есть в прошлом.
– Ты удивительный человек. Один из немногих, кто так легко расстаётся с прошлым.
– Им нельзя жить.
– Но из него надо выносить нужное, – возразил Игорь и пристально посмотрел на меня.
– А я не выношу? – отпарировала я. – По-моему, даже больше, чем нужно. – Игорь, ожидая с молчаливым любопытством ответа, спокойно смотрел на меня. – Тебя же в прошлом я не оставила, хотя, это было бы правильней. Но увы, мой мозг сам решает, с чем ему жить, а с чем расставаться.
– Я бы на твоём месте меня не простил.
– Но ты не на моём месте. Это моё дело – прощать тебя или нет.
Игорь лишь пожал плечами, выразив так своё согласие.
– Да, если бы ты меня не простила, забирать из дома тебя было бы сложнее.
Я в ответ безрадостно улыбнулась, но после красноречиво посмотрела на друга.
– Но я чувствую себя очень униженно. Я бы прожила без тебя, ведь человек всё может выдержать и ко всему приспосабливается.
– Этим я и руководствовался, когда уезжал. Но согласись, момент прощания в любом случае останется у тебя в памяти как переломный. Если б я не вернулся, я бы ничем не исправил ситуацию, но даже вернувшись, я, на самом деле, не в силах стереть тебе из головы пережитое. Неприятно быть главным героем подобных воспоминаний, а особенно, для близких людей.
– Ты убеждаешь меня в своей подлости?
– Даю тебе шанс передумать. Мы ещё не так далеко от города. Я бы больше всего хотел разделись с тобой наше путешествие, но о тебе я по-прежнему подумал меньше. Я сильно тебя обидел и, забрав тебя из дома, одновременно стал единственным родным тебе человеком. Я бы вряд ли на такое согласился.
– Игорь, только самые близкие люди и способны наносить подобные удары. Ни из-за кого другого я бы не переживала. – Лес тронуло лёгкое дуновение, речка почти безмолвно журчала у нас у обоих в ушах. – Игорь, в чём смысл дороги?
– Нашей дороги? – уточнил друг.
– Не нашей. А просто дороги. Любой.
– Ты задаёшь вопрос равносильный вопросу «В чём смысл жизни?». Разве есть на него ответ? – риторически произнёс он – и я извиняющимися глазами взглянула на него:
– Неправда.
Игорь развернулся ко мне, чуть наклонился, чтобы наши лица были на одном уровне, и так, как он часто делает, уткнулся носом мне в шею – он слишком хорошо знал, когда мне хотелось объятий и когда мне их надо предоставлять.
– Надя, а в чём смысл дороги? – еле расслышала я.
– В том, чтобы не возвращаться.
Прильнув к Игорю ближе, я немного приласкалась, прижалась к нему. Он был теперь гораздо теплее меня – я уже совсем замёрзла.
– Ты меняешься каждую минуту. Даже если ты вернёшься, ты уже вернёшься не домой. Пусть там ничего не изменится, но твой взгляд на те же самые вещи будет уже другим, – проговорил Игорь медленно.
– В этом вся её польза. В этом вся красота любой дороги. Она никогда не повторится, никогда не поведёт тебя обратно теми же тропами, какими ты уже ходил. Так, по сути, дороги домой и вовсе не существует. Ты либо всю жизнь стремишься найти свой дом, либо всегда из него уходишь. Разве нет? Я, наверно, буду всю жизнь искать свой дом. – Я на минуту притихаю, с наслаждением концентрируюсь на чувствующемся возле шеи и плеча дыхании друга. Мне это нравилось, мне были очень приятны прикосновения других людей. В наше странное время почему-то не каждый человек способен взять другого за руку, погладить его по голове, обнять, уткнуться носом в волосы, и я уже не говорю о том, чтобы по-дружески поцеловать. Теперь почему-то люди, как самые одичавшие животные, избегают проявлений нежности, словно она может их оскорбить и обесчестить. А я всё же придерживаюсь мнения, что, если бы люди чаще обнимались, они были бы хоть чуть-чуть добрее. – Да, буду искать свой дом… А найду, его, наверно, там, где меньше всего жду. Так всегда происходит. Все дороги ведут либо домой, либо из дома. Хотя в данном случае эти два понятия становятся синонимичными. А уезжать для того, чтобы вернуться, это всё равно что мастерить чучело на Масленицу, чтобы его потом сжечь.
– Маленькая максималистка, – беззлобно ухмыльнулся Игорь. – Возможно ведь, что нам обоим придётся вернуться.
– Нет, не придётся. Ты прав. Мы уже будем совершенно другими.
– В таком случае, смысл твоей дороги заключается лишь в том, чтобы просто по ней идти. Смысл твоей дороги в постоянном развитии, в преодолении трудностей. Но, Надя, идя без отдыха по такой дороге, ты устанешь.
– Сегодня я отдыхаю, – мягко возразила я.
– Нет. Сегодня ты совершаешь самый значительный рывок. Сегодня ты не возвращаешься как никогда раньше.
– И ты. Ты ведь тоже, забрав меня, лишил себя последней возможности вернуться. Тебе больше незачем приезжать в наш город.
– Да, – согласился друг. – Смешно, не правда ли? Нас обоих теперь ничто и нигде не держит, и всё, что нам дорого, без проблем помещается в мою машину. Странно, но я абсолютно уверен в том, что ты правда никуда никогда не вернёшься. Я б тебя так не ценил, если б ты нарушала подобные слова.
– Но ведь и ты верен этому решению. Ты теперь тоже не вернёшься.
– Да. И я никогда не вернусь.
Вскоре мы залезли на заднее сиденье, выудив из багажника два одеяла, вязанный плед и некое подобие подушки и решили дальше сегодня не ехать. Блаженное тепло обволакивало салон автомобиля, усыпляло мой измученный разум, и я, запустив руку в светлые волосы друга, дремлющего на моём сердце, всё говорила и говорила… Говорила всё то, что меня убивало, говорила – и тем самым убивала сама все свои страхи, которым больше никогда не суждено стать явью. А Игорь, наверно, уже и не слушал и давным-давно спал, но, несомненно, по-прежнему всё понимал.
– И разве я ничего не могу изменить? А разве имеешь ты право такое заявлять? Хотя… Ты имеешь право говорить то, что ты думаешь, и да, в этом я ничего не могу изменить. Но возьми, пожалуйста, сначала каждую нашу прогулку и уничтожь её в своей и моей памяти. Забери каждую улыбку и разбей её, как волну о скалы, устрой настоящий шторм – и пусть улыбки погибнут в нём, подобно непутёвым мореплавателям. Сначала забери назад каждое слово, адресованное мне, и отдай слова мои, произнесённые случайно, произнесённые специально, невзначай, на эмоциях, слова верные и неверные, отчаянные и восторженные, и только после этого говори, что я не могу ничего изменить. Возьми каждую мысль, спровоцированную мной, коснувшуюся меня своими ресницами; выкинь из своей памяти лёд и пламя моих глаз, их блеск и грусть, их безумство и спокойствие, и из моей – глаза твои; верни мне каждое касание моих рук и вместе с ним каждое твоё чувство, возникшее под моими пальцами, под моими тёплыми ладонями. Нарушь покой каждого ночного откровения ярким взрывом солнечного света, смой ливнем каждый весенний день, попрощайся в самый неподходящий момент и не появись снова, когда ты будешь мне нужен. Забери из прошлого запах твоего тела и звук твоего бьющегося сердца, и сам забудь, как сильно и неровно бьётся сердце моё и как пахнет от меня – акацией и ванилью, как ты говорил. Забудь, что ты чувствовал, касаясь своей щекой моих волос, касаясь губами моей шеи и плеч, да и просто касаясь меня, забудь каждый вдох, сломай крылья каждому выдоху, а потом только говори, что я ничего не могу изменить. Разломай, как плитку горького шоколада, желания жить, вселённые в тебя одним моим глупым желанием помочь, убей каждую синюю птицу, залетающую ко мне на подоконник, где ты оставлял хлебные крошки, просто меня – забудь. Сожги, как свёрток чёрно-белых снимков, все свои тайны из моей памяти и тогда лишь говори, что я не могу ничего изменить. И не скучай по мне, не помни, какой у меня рост и размер ноги, сколько мне лет и сколько раз я с кем-то целовалась на твоих глазах. Не помни, с кем я целовалась искренне, и тем более, кого любила, не помни и тех, кого я ненавидела и кому сделала так больно, что не спала ночами. Забудь извечные вопросы, как ты ко мне относишься, любишь или просто хочешь дружить, впрочем, так и оставленные без ответов… Говори, что я не могу ничего изменить, когда сможешь равнодушно смотреть на мои слёзы, когда тебе не станет легко на душе от моего смеха и когда тебе будет абсолютно всё равно, откуда у меня шрамик на левой скуле, и только тогда, только когда ты искренне поверишь в никчёмность всей меня в твоей жизни, я действительно не смогу ничего изменить.
Рассвет – всегда начало
Я пробудила утро впервые, когда небо ещё даже не окрасилось предвестием зари. Мартовский холодный небосвод прорезался сквозь дома нежной бирюзой, и голубые капли света, срывающиеся из-за задёрнутых штор, тщетно будили пространство: времени осталось мало – если бы мы поднялись раньше, его бы стало немножко больше. Но я сразу окунулась в сон, как только ощутила реальность, оставив утру привилегию проснуться первому и в одиночестве. В момент между сном и явью меня отчаянно притянули к себе, лёгким сквозняком к разгорячённой щеке прикоснулось дыхание.
Момент между сном и явью второй раз был долгим и сильно приглушённым действительностью, в которую я упорно не верила.
Я чувствовала, периодически и случайно приоткрывая заспанные тяжёлые веки, как меня кутают в одеяло, нагретое теплом человеческих тел, а потом как я подлетаю вверх. Сладкий сон понемногу стихал, но не звучала явь, поэтому забвение отхлынуло несколько позже.
Безмолвная кухня утопала в сине-фиолетовой акварели, в окно стучались восточные ветра – но мы не впускали их. В бесшумно закипающем чайнике отражалась безмолвная кухня, утопающая в сине-фиолетовой акварели, с окном, куда стучались восточные ветра, не впускаемые нами. Ничего в этом мире не горело, кроме синих языков пламени, облизывающих блестящее пузо чайника. Лишь на противоположенной от меня стене, где находились и плита, и мойка, и кухонный шкафчик, огненно-оранжевым полупрозрачным горячим пятном, рассекая на две части маленькую кухоньку, разлился свет.
Этот мягкий свет успокаивал и грел, хотя не падал на меня. Рассветный привет, вестник солнца, утренний страж, безутешный утешитель… Рыжий, как Пэппи, разрезанный на квадраты рельефом людского жилища, луч. Мягкий и холодный, но согревающий, явившийся ко мне из дня, давно минувшего, дня, который так же, как и этот, был очередным последним.
В тот последний день этот луч касался мира так же безмолвно и холодно, так же бесстрастно и мягко. Неимоверно тихая вершина оделась в белила и рассветную мантию лимонно-розовой пелены надвигающегося солнца. В палатке уже было жарко, слишком жарко, и совсем не верилось, что за пределами нашего убежища январский мороз беспощадно властвует природой. Я высунула ногу из палатки, и лучи нежно обволокли её негреющим светом. Выбравшись наружу, я обречённо глядела на пламенеющий с каждой секундой мир – рай не может длиться вечно – лишь эта мысль не даёт возможности раю длиться вечно, остальное – дело понимания. Всё было в снегу: вся долина была в снегу, и все деревья были в снегу, и вершина, и все другие вершины были в снегу, и мои босые ноги по лодыжку тоже были в снегу, – в снегу и лучах. Безжалостно восходило ледяное сердце галактики. Горячими от сна пальцами я тронула отяжелевшую от массы серебристого снега ветку, которая нависала шатром над нашей палаткой. Обжигающим пухом, переливающимся розовым перламутром, с ветки полетели белые хлопья, погибающие на моей горячей коже, на обнажённом давно не тронутым загаром теле.
В объятиях одеяла и глубокого кресла я всматривалась в эту до мелочей изученную кухню, в руках у меня была большая чашка с чёрным сладким чаем, поставленная куда-то на бедро, и напротив моего кресла сидел Яр, смотрящий чёрными глазами в меня, как и тогда, в горах в морозный январь, в ещё один последний наш рассвет. Так уж сложилось, что расставались навсегда мы очень много раз – и каждый на рассвете.
«Я люблю тебя», – подумала я.
Я снова пробудила утро, вторично.
– Это солнце? – спросила я, глядя на лоскуты лёгкого света на стене.
– Фонарь, – ответил он, и внутри у меня что-то сломалось: ведь он так красиво горел.
– Сколько у нас осталось времени?
– Нам всё равно не хватит.
Я, не моргая, смотрела в пристальные орлиные глаза. Нет, ничего мне эти чёрные глаза не говорили и не знала я, о чём он думал. Даже в этот последний миг мы вряд ли покажем свои истинные мысли. Мне так хотелось плакать, но пересохшие глаза не выдавали меня – Яр никогда не увидит моих слабостей, я уберегу его хотя бы от этого. Если я заплачу, ему будет ещё больней, чем мне. Мы просто наслаждались присутствием друг друга. Каждый из нас знал, что мы можем никогда не увидеться, но воспоминания о грустном прощании испортит нам жизнь, а так мы запомним друг друга красивыми, любящими, говорившими о ерунде, сильными… Я запомню эту лавандовую кухню и каждый луч безжизненного фонаря так же, как и то январское утро, погрязшее в снегах. Я запомню Яра таким же спокойным и молчаливым с глубоким взглядом исподлобья, с распущенными, ещё не расчёсанными чёрными волосами – скоро я сама его расчешу и стяну его волосы в низкий свободный хвост, – и я запомню себя такой, какой запомнил меня он, обнажённой и укутанной наполовину в тёплое одеяло, с чашкой чая в белых руках и пшеничными локонами, ложащимися мне на плечи, руки и грудь. Я чувствовала себя красивой, и это придавало мне сил – да, пусть он помнит меня такой. И даже если не суждено мне больше со слезами кинуться к нему на шею, сегодня я этого не сделаю. Это удел встречи – плакать от радости и целоваться до потери самообладания, а сегодня – только выдержка, только сила.
У меня болели губы, и в груди что-то горело. Сильно и болезненно билось сердце.
– Я так люблю март, – задумчиво произнесла я, – выходишь на улицу – и сразу же так вкусно пахнет цветущими деревьями. Всё такое красивое, всё распускается: миндаль, вишни, абрикосы… Мне хочется вечный март.
Яр растянул губы в ехидной улыбке.
– Ты про любой месяц так говоришь.
Это был январь.
Молоком по долине разлились реки тумана, они текли из ущелий, из оврагов и обрывов, заполняя все донышки кривых горных чашек. Деревья там были неразличимы из-за снега, и только скалы иногда сверкали серебром так, что их можно было увидеть. И небо – лёгкое-лёгкое…
Мне с раннего розового детства было интересно, что происходит в самой лесной глуши, когда она недоступна человеческому глазу, когда в ней никого нет и я её не вижу. То розовое детство рисовало избитые сюжеты пикников дриад и сатиров с этнической живой музыкой, всяких фей, эльфов; позже моя фантазия стала мрачнее: мистические существа, скрывающиеся под покровом мрака, не способные, однако, стать осязаемыми, но и без того не внушающие ничего, кроме неприятного холодящего чувства, – сейчас… А сейчас я сама ощущала себя духом дикой чащи. Сегодня я оказалась в самом центре недосягаемого взглядом человеческим, мыслью осознанной. Я как будто нечаянно оказалась там, где не должна была быть, словно я каким-то неведомым образом сбила линию своей судьбы, сошла с видимой тропы куда-то в лесные дебри и застала сию одинокую душу природы врасплох, но не за каким-нибудь постыдным занятием, а за делом весьма тихим, не тайным, просто которое никто и никогда не видит. Я сбила планы, нарушила нормальный ход событий, выпала из ритмичной и последовательной реальности, сбежала незамеченной из многотысячного оркестра посреди произведения, долгого и уже надоевшего – я за кулисами, я там, где быть не должна, где происходит другое представление. И вот я видела, чем занимается природа, когда никто не смотрит, я случайно оказалась зрителем другой драмы, сюжета которой я не читала, своей роли в которой не имела, а посему в этом спектакле была свободной и независимой от сценария. Это приятное чувство вселяло некий неизведанный покой: что-то пошло не так.
Момент за моментом поглощали меня вместе с нашим маленьким лагерем и Яром, впечатывались в долговременную память беловатыми шрамами. И даже если бы я очень захотела, я бы никогда не смогла вычеркнуть строки сегодняшнего дня из своей немыслимо странной жизни. Очень обидно, что самые прекрасные мгновения иногда обречены превратиться в самые грустные воспоминания.
И чем этот мартовский рассвет отличается от того рассвета январского, белоснежного, такого же последнего, как и многие предшествующие? И так я привыкла к неизбежному расставанию навсегда, к этой немой безысходности, что уже смирилась: уже стабильно и автоматически теряла всякую надежду вновь увидеться после каждого прощания и без ропота и возмущения, без слёз и порывов принимала жизнь без Яра. Без всего прожить можно, а без того, без чего нельзя, и не будешь; и всё можно пережить, а то, что нельзя, и не переживёшь.
У меня до сих пор чувствовалась лёгкая дрожь в бёдрах, горела грудь, но мёрзли обнажённые плечи и пальцы, так давно не обласканные летним золотом солнца. Из-за этих совершенно разных ощущений казалось, что у меня поднялась температура. Так чувствовал себя человек, уже начинающий заболевать, но обязанный пережить насыщенный день. И вот, успев посетить пару-тройку сомнительных заведений, отстояв пару-тройку долгих очередей, встретившись с несколькими важными и тяжёлыми в общении людьми и забежав на рынок за продуктами на обратном пути, он возвращается домой выжатым, как лимон, не желающим уже даже кушать и уже заболевшим. Болезнь в эти минуты наступает подобно сну, поглощая человека в себя, как пищу, обволакивая его, обнимая широкими руками. Но уже это становится приятно, уже хочется поболеть, спокойненько полежать в кровати и попить лимонного чая, тратить силы только на интересные книги и осенние фильмы. И даже кажется, что не так сильно першит горло, и голова болит задумчиво и томно, и приятно горячо в груди, и холодно от температуры, но тепло от нескольких одеял, беспорядочно раскинувших свои крылья в твоей обители.
Жизнь, ну где мои романтичные фильмы и любимый Джек Лондон? Где мой насыщенный день обыкновенных житейских проблем, после которого я буду мёртвой и неспособной даже поужинать?.. Нет, я герой не дождливого кино, а весеннего утра и несуществующего прощания. Несуществующего, потому что где-то в идеальном и правильном мире я ещё сплю, вижу красивые сны, а не мимолётные кошмары, пробуждаясь от каждого шороха, от каждого неосторожного вздоха Яра, и Яр в этом идеально-правильном мире давно канул куда-то на дно. Нас как двух любящих людей, по сути, тоже не существует, а мне ведь уже и не помнится, когда я успела стать той, кто принадлежит нереальному человеку, лишённому права на жизнь. Я не знаю, как он выдерживает. Наёмникам присуще непоколебимое и ужасающее спокойствие, но разве способна человеческая психика уместить в себе животную безжалостность и искреннюю любовь? Но как оказалось, человеческая психика может сочетать абсолютно не сочетаемые чувства и качества; совершенно противоположенные эмоции являются друг для друга контрастом, разворачивая в человеке настоящие боевые действия.
– Боюсь, мы не увидимся слишком долго, – произнёс он бесстрастно.
– Я знаю. Всё, как всегда. И знаю, что я даже не имею права спросить, где ты пропадёшь на этот раз.
– Это же ради твоей безопасности, – слабо улыбнулся Яр. – Ты и это ведь знаешь.








