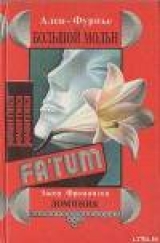
Текст книги "Большой Мольн"
Автор книги: Ален-Фурнье
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Ален-Фурнье
Большой Мольн
Моей сестре Изабелле
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
НОВИЧОК
Он появился в нашем доме в один из воскресных дней ноября 189… года.
Я по-прежнему говорю в «нашем доме», хотя Дом уже давно перестал быть нашим. Вот уже почти пятнадцать лет, как мы уехали из тех мест и, наверное, никогда больше туда не вернемся.
Мы жили на территории школы в маленьком городе Сент-Агат. Мой отец, которого я, как и все другие ученики, называл «господин Сэрель», преподавал и в старших классах, где воспитанников готовили к экзаменам на звание учителя, и одновременно в средних. Моя мать занималась с младшими классами.
Длинное красное строение на окраине городка, с пятью застекленными дверьми, все заросшее диким виноградом; огромный двор с площадкой для игр и с прачечной; большие ворота, за которыми начинается улица; с северной стороны решетчатая калитка выходит на дорогу в Ла-Гар, что в трех километрах от Сент-Агата; на юге, позади дома, – пригороды, переходящие в поля, сады и луга… Таковы, в общих чертах, приметы дома, где я прожил самые тревожные и самые мне дорогие дни своей жизни, – дома, откуда брали свое начало и куда возвращались все наши приключения, разбиваясь, как волны об одинокую скалу.
Нашу семью привела сюда простая случайность: то ли поиски работы, то ли распоряжение инспектора или префекта. В один теперь уже очень далекий день, к концу каникул, крестьянская повозка, за которой следовал наш домашний скарб, подвезла нас – мою мать и меня – к ржавой решетчатой калитке. Мальчишки, воровавшие в саду персики, бесшумно юркнули в щели изгороди… Моя мать, которую мы с отцом называли Милли, самая педантичная хозяйка на свете, тотчас прошла в комнаты, заваленные пыльной соломой, и, как это бывало с ней при каждом переезде на новое место, сразу с отчаянием заявила, что просто немыслимо разместить мебель в таком ужасном доме… Она вышла ко мне, чтобы поделиться своим огорчением. Разговаривая со мной, она ласково вытирала носовым платком мое лицо, почерневшее от дорожной пыли. Потом вернулась в дом и стала подсчитывать, сколько дыр нужно заделать, чтобы квартира стала пригодной для жилья… А я остался в этом чужом дворе один, в своей большой соломенной шляпе с лентами, и, ожидая Милли, копошился в песке, под навесом возле колодца.
Во всяком случае, именно так представляется мне теперь наш приезд в Сент-Агат. И едва только пытаюсь я вызвать в памяти этот далекий первый вечер в школьном дворе и это первое ожидание, как передо мной встают другие вечера, тоже наполненные ожиданием; уже я вижу себя возле больших ворот, вижу, как, схватившись обеими руками за решетку, я пристально смотрю на улицу и жду, тревожно жду кого-то. А если я стараюсь представить себе первую ночь, проведенную на новом месте, в моей мансарде, рядом с чердаками на втором этаже, сразу вспоминаются мне другие ночи; я уже не один в этой комнате: по стенам движется большая беспокойная тень моего друга. Школа, поле папаши Мартена с тремя ореховыми деревьями, сад, каждый день, начиная с четырех часов, заполнявшийся женщинами, которые приходили в гости к маме, – этот мирный пейзаж навсегда вошел в мою память каким-то встревоженным, неузнаваемо преображенным благодаря присутствию человека, который взбаламутил все наше отрочество и даже бегством своим не принес нам успокоения.
Однако мы прожили в этих краях уже десять лет, когда появился Мольн.
Мне было пятнадцать лет. Было холодное ноябрьское воскресенье, первый в ту осень день, напомнивший о зиме. Весь день Милли прождала экипаж из Ла-Гара, с которым ей должны были привезти зимнюю шляпу. Утром она пропустила мессу; сидя вместе с другими детьми на хорах, я до самой проповеди тоскливо поглядывал на двери, надеясь, что она вот-вот войдет в своей новой шляпе.
К вечерне мне тоже пришлось идти одному.
– Впрочем, все равно, – сказала она, желая меня утешить и счищая рукой пылинки с моего костюма, – даже если бы ее и доставили, эту шляпу, мне бы, наверно, пришлось все воскресенье ее переделывать.
Нередко так и проходили наши зимние воскресенья. Отец с утра отправлялся на какой-нибудь дальний, окутанный туманом пруд ловить с лодки щук, а мать до самой ночи сидела в полутемной комнате за починкой своих немудреных нарядов. Она запиралась на ключ из боязни, что какая-нибудь знакомая дама, – такая же бедная и такая же гордая, как и она, – застигнет ее за этим занятием. А я, придя от вечерни, сидел в нетопленой столовой, читал и ждал, пока она отопрет дверь, чтобы показать мне, как ей идет эта обнова.
В то воскресенье я немного задержался после вечерни на улице. Возле церкви было оживленно, у входа собрались мальчишки поглазеть на крещение. На площади несколько горожан, облаченных в пожарные куртки, составили ружья в козлы и, зябко постукивая ногами, слушали разглагольствования Бужардона, своего бригадира…
Вдруг колокольный звон оборвался, словно звонарь понял, что ошибся и звонит в неурочный час; Бужардон со своими людьми, разобрав оружие, мелкой рысью потащил пожарный насос; я видел, как они скрылись за поворотом, а за ними молча бежали четверо мальчишек, с хрустом ломая своими толстыми подошвами ветки и сучья на заиндевевшей дороге: я решился пуститься вслед.
Жизнь в городке замерла, только из кафе Даниэля глухо доносились, то разгораясь, то затихая, споры любителей выпивки. Прикасаясь на ходу к низкой ограде нашего двора, я добрался до калитки, немного встревоженный своим опозданием.
Калитка была приоткрыта, и я сразу увидел: происходит что-то необычное.
У двери в столовую из пяти застекленных дверей, выходивших во двор, она была ближе всех к калитке – стояла седая женщина и, наклонившись к стеклу, пыталась что-то разглядеть сквозь занавески. Она была маленького роста, в старомодном капоре черного бархата. Ее худое лицо с тонкими чертами выражало крайнее беспокойство, и какое-то тревожное предчувствие при виде ее заставило меня остановиться на первой ступеньке, у самой калитки.
– Куда он мог деваться, боже мой! – проговорила она вполголоса. – Ведь только что был здесь. Наверно, уже весь дом успел обойти. Может быть, убежал…
Каждую фразу она сопровождала еле слышным троекратным постукиванием по стеклу.
Никто не отзывался на стук незнакомки. Милли наверняка получила уже шляпу из Ла-Гара; значит, она сидела сейчас в своей комнате, перед кроватью, усеянной старыми лентами и потертыми перьями, и, забыв обо всем на свете, шила, перешивала, переделывала свой скромный головной убор… И правда, когда посетительница проскользнула вслед за мною в столовую, мама появилась на пороге в новой шляпе, двумя руками придерживая еще не до конца укрепленные ленты, перья и латунные нити… Она улыбнулась мне своими синими глазами, уставшими от работы в сумерках, и воскликнула:
– Взгляни-ка! Я ждала тебя, чтобы показать…
Но, заметив незнакомку, усевшуюся в большое кресло посреди комнаты, она в смущении остановилась, не докончив фразы. Быстрым движением она сняла шляпу и в продолжение всего последующего разговора прижимала ее к груди правой рукой, как большое гнездо.
Женщина в капоре, зажав коленями зонтик и кожаную сумочку, стала объяснять цель своего визита и при этом слегка покачивала головой и прищелкивала языком. Она уж снова держалась с апломбом, а начав говорить о своем сыне, сразу приняла горделивый и таинственный вид, нас обоих очень заинтриговавший.
Они приехали в почтовой карете из Ла-Ферте-д'Анжийон, что в четырнадцати километрах от Сент-Агата. Вдова – и, как она дала нам понять, весьма богатая – она потеряла младшего из двух своих сыновей, Антуана, который внезапно умер, вернувшись однажды вечером из школы, – умер от того, что искупался вместе с братом в зараженном пруду. Она решила поместить старшего, Огюстена, к нам, на пансион, чтобы он прошел здесь курс старших классов.
И она сейчас же принялась расточать похвалы этому новому ученику, которого к нам привезла. Ее словно подменили; я просто не узнавал седую женщину, ту, что минутой раньше стояла, сгорбившись, перед дверьми и всем своим умоляющим и растерянным видом напоминала курицу, потерявшую дикого птенца, которого она вывела вместе с собственными цыплятами.
Она с восторгом рассказывала о своем сыне удивительные вещи. По ее словам, он любил делать ей приятное и мог прошагать босиком по берегу реки целые километры – только для того, чтобы разыскать для нее среди зарослей терновника яйца водяных курочек или диких уток… Он ставил и верши… И один раз ночью нашел в лесу фазана, попавшего в силки…
А я-то, однажды порвав нечаянно куртку, едва решился вернуться домой… Я с удивлением взглянул на Милли.
Но моя мама больше не слушала, она даже сделала даме знак, чтобы та замолчала; осторожно положив на стол свое «гнездо», мама тихонько поднялась, словно желая застигнуть кого-то врасплох…
Действительно, над нами, в чулане, где были свалены почерневшие остатки фейерверка от прошлогоднего праздника Четырнадцатого июля, ходил взад и вперед кто-то чужой, сотрясая потолок уверенными шагами; потом шаги переместились в сторону больших темных чердаков второго этажа и наконец затерялись где-то возле пустующих комнат надзирателей, где теперь сушился липовый цвет и дозревали яблоки.
– Я уже слышала этот шум несколько минут тому назад; кто-то ходил по нижним комнатам, – тихо проговорила Милли, – но я подумала, что это ты, Франсуа, вернулся…
Никто не ответил ей. Мы все трое застыли с бьющимся сердцем; и вот отворилась дверь, ведущая с чердака на кухонную лестницу; кто-то прошагал по ступенькам, прошел через кухню – и возник в полумраке на пороге столовой.
– Это ты, Огюстен? – спросила дама.
Перед нами был высокий мальчик лет семнадцати. В сумерках я видел сперва только его крестьянскую войлочную шляпу, сдвинутую на затылок, и черную блузу, стянутую ремнем на ученический манер. Я смог разглядеть, что он улыбается…
Он заметил меня и, прежде чем кто-либо успел потребовать от него объяснений, сказал:
– Пошли во двор!
Какую-то секунду я колебался. Потом, видя, что Милли меня не удерживает, взял фуражку и шагнул к нему. Мы вышли через кухонную дверь и двинулись к площадке, уже погружавшейся в темноту. В неверном вечернем свете я видел его костистое лицо, прямой нос, пушок на верхней губе.
– Посмотри, что я нашел у вас на чердаке, – сказал он. – Ты, должно быть, редко туда заглядываешь.
Он держал в руке маленькое потемневшее деревянное колесо, обвитое фитильным шнуром, – наверно, то было «солнце» или «луна» для праздничного фейерверка.
– Я нашел там еще две такие же штуки, они совсем целые, мы их сейчас с тобою зажжем, – сказал он невозмутимым тоном с видом человека, который уверен в успехе задуманного.
Он сбросил свою шляпу на землю, и я увидел, что он острижен наголо, как крестьянин. Он показал мне две ракеты с бумажными фитилями, видимо, не успевшими догореть до конца. Воткнув в песок ступицу колеса, он вытащил из кармана коробку спичек – к моему величайшему изумлению, так как нам категорически запрещалось иметь при себе спички. Присев, он осторожно поднес спичку к фитилю. Потом быстро оттащил меня за руку.
Минуту спустя, когда моя мать, закончив с матерью Мольна переговоры о плате за пансион, вышла вместе с ней из дома во двор, над площадкой, шипя, как кузнечные мехи, взвились два снопа красных и белых звезд. И какую-то долю секунды она, наверно, могла видеть, как я стою в волшебном сиянии рядом с высокой фигурой новичка, держа его за руку….
Но она и на этот раз ничего не сказала.
А вечером, во время ужина, за нашим семейным столом сидел молчаливый юноша; он ел, опустив голову и не замечая, что мы все трое с любопытством глядим на него.
Глава вторая
ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ
До того времени мне почти что не приходилось бегать по улицам вместе с городскими мальчишками. Вплоть до этого самого, 189… года меня мучили боли в бедре, и я чувствовал себя несчастным и робким. До сих пор помню, как, жалко прыгая на одной ноге, я пытался догнать быстроногих школьников, которые носились по переулкам, окружавшим наш двор.
К тому же мне не разрешалось уходить из дому. И я вспоминаю, как Милли, обычно гордившаяся моим послушанием, не раз крепкими подзатыльниками загоняла меня домой, увидев, что я ковыляю и подпрыгиваю, увязавшись за ватагой шалопаев.
Прибытие Огюстена Мольна, совпавшее с моим выздоровлением, явилось для меня началом новой жизни.
Прежде, до его приезда, конец уроков в четыре часа пополудни означал для меня наступление долгого одинокого вечера. Отец переносил огонь из классной печки в камин нашей столовой; из выстывшей школы, где перекатывались клубы дыма, уходили последние запоздалые ученики. Еще некоторое время во дворе продолжались беготня, игры; потом спускались сумерки; двое дежурных, закончив уборку класса, забирали из-под навеса свои пальто и капюшоны и, подхватив сумки, быстро уходили, оставляя за собой открытыми большие ворота.
Тогда я шел в комнаты мэрии, забирался в архив, где было полно дохлых мух и хлопающих на ветру объявлений, и, пока не угасали отблески дневного света, читал, усевшись в старую качалку возле выходившего в сад окна.
Когда становилось совсем темно, когда на соседней ферме начинали завывать собаки, а в окне нашей кухоньки загорался свет, я шел наконец домой. Мать принималась готовить ужин. Я поднимался по чердачной лестнице, молча садился на третью ступеньку и, прислонившись лбом к холодным прутьям, смотрел, как она разводит огонь в тесной кухне, озаренной мерцанием одинокой свечи…
Но вот появился человек, оторвавший меня от этих мирных радостей детства, человек, задувший свечу, которая освещала для меня ласковое материнское лицо, склонившееся над вечерней трапезой, человек, погасивший лампу, под которой поздними вечерами, когда отец наглухо закрывал деревянными ставнями стеклянные двери, собиралась наша счастливая семья. И этим человеком оказался Огюстен Мольн – Большой Мольн, как его сразу прозвали у нас в школе.
С его приездом, с первых дней декабря, школа преобразилась: теперь никто не торопился уходить домой после четырех часов пополудни. Несмотря на холод, врывавшийся в открытые двери, и на крики дежурных, таскавших ведра с водой для мытья полов, десятка два учеников, живших в городке и в окрестных деревнях, оставались в классе, сгрудившись вокруг Мольна. И начинались долгие споры, бесконечные разговоры, в которых понемногу – со смешанным чувством тревоги и удовольствия – начинал участвовать и я.
Мольн обычно молчал, но только ради него все болтали наперебой, и то один, то другой из самых словоохотливых учеников, потребовав общего внимания и призвав в свидетели поочередно каждого из приятелей, шумно выражавших свое одобрение, принимался рассказывать длинную историю об очередном озорстве, которую все слушали разинув рты и втихомолку посмеиваясь.
Усевшись на парту, болтая ногами, Мольн размышлял. Иногда он смеялся вместе с другими, но совсем тихо, словно приберегая настоящий, громкий смех для какой-то лучшей истории, известной лишь ему одному. Потом, когда сумерки начинали густеть и классные окна не освещали больше кучку подростков, Мольн вдруг поднимался и, расталкивая тесно обступивший его кружок, кричал:
– Хватит! Пошли!
И все срывались с места и шли за ним, и долго еще из темноты дальних улиц до меня доносились их крики…
Теперь иногда отправлялся с ними и я. Вместе с Мольном я доходил до ворот деревенских конюшен и хлевов в тот час, когда хозяйки доят коров… Мы заглядывали в мастерские, и из глубины темной комнаты под стук станка слышался голос ткача:
– А! Студенты пришли!
Обычно к часу ужина мы оказывались недалеко от бульвара, у Дену, тележного мастера, который был также и кузнецом. Его мастерская помещалась в бывшем постоялом дворе с большими двустворчатыми дверьми, всегда открытыми настежь. Еще с улицы слышен был скрежет кузнечных мехов, и в отблесках пылающих углей возникали из темноты то фигуры крестьян, остановивших телегу у ворот, чтобы поболтать с минутку, то школьник вроде нас, который, прислонившись к дверям, молча смотрел, как работает кузнец.
Здесь-то примерно за неделю до рождества все и началось.
Глава третья
«Я ЗАХОДИЛ В ЛАВКУ КОРЗИНЩИКА»
Дождь лил целый день и закончился только к вечеру. День был смертельно тосклив. Во время перемен никто не выходил из школы. В классе ежеминутно слышался голос моего отца, г-на Сэреля:
– Да хватит же вам галдеть, сорванцы!
После окончания последней перемены – мы называли ее последней «четвертушкой часа» – г-н Сэрель, несколько минут шагавший с задумчивым видом взад и вперед, остановился, с силой стукнул линейкой по столу, чтобы прекратить смутный гул, обычно поднимавшийся к концу занятий, когда класс скучает, и спросил в настороженной тишине:
– Кто поедет завтра вместе с Франсуа в Ла-Гар встречать господина и госпожу Шарпантье?
Это были мои дед и бабка. Дедушка Шарпантье, старый лесничий в отставке, носил серый шерстяной плащ и кроличью шапку, которую называл «своим кепи»… Младшие хорошо его знали. По утрам, умываясь, он, как старый солдат, шумно плескался в ведре с водой, теребя свою бородку. А дети обступали его и, заложив руки за спину, с почтительным любопытством наблюдали за этой процедурой… Были они знакомы и с бабушкой Шарпантье, маленькой старушкой в вязаном крестьянском чепчике, которую Милли не раз приводила в класс малышей.
Каждый год, за несколько дней до рождества, мы отправлялись встречать их в Ла-Гар к поезду, прибывавшему в четыре часа две минуты. Чтобы повидаться с нами, они пересекали весь департамент, нагруженные мешками каштанов и завернутой в салфетки рождественской снедью. И как только оба они, укутанные, улыбающиеся и немного смущенные, переступали порог нашего дома, мы закрывали за ними все двери – и начиналась чудесная неделя радости и забав…
Чтобы доставить стариков с вокзала, вместе со мной нужно было послать еще кого-нибудь, человека положительного, который не опрокинул бы всех в канаву, и к тому же достаточно добродушного, потому что дедушка Шарпантье по любому поводу начинал браниться, а бабушка была немного болтлива.
На вопрос г-на Сэреля дружно отозвался десяток голосов:
– Большой Мольн! Большой Мольн!
Но г-н Сэрель сделал вид, что не слышит. Тогда одни начали кричать:
– Фромантен!
– Жасмен Делюш! – закричали другие.
Самый младший из братьев Руа, тот самый, что любил, взгромоздившись верхом на свинью, прокатиться бешеным галопом по окрестным полям, закричал пронзительным голосом: «Я, я!»
Дютрамбле и Мушбеф только робко подняли руки.
Мне хотелось, чтобы выбор пал на Мольна. Эта небольшая прогулка в повозке, запряженной ослом, обещала быть занимательной. Ему, конечно, тоже хотелось поехать, но, напустив на себя высокомерный вид, он молчал. Все старшие ученики уселись, как и он, на парты, положив ноги на сиденья, – это была наша обычная поза в минуты веселых передышек в занятиях. Коффен, задрав полы своей блузы и обвязавшись ими вокруг пояса, обхватил железный столб, служивший опорой для потолочной балки, и начал взбираться по нему в знак ликования. Но г-н Сэрель сразу охладил наш пыл, сказав:
– Решено! Поедет Мушбеф!
И все молча расселись по своим местам.
В четыре часа пополудни мы стояли вдвоем с Мольном посреди большого холодного двора, изрытого дождевыми потоками. Мы молча смотрели на мокрый город, уже начинавший высыхать под порывами ветра. Вот в плаще с капюшоном, с куском хлеба в руке, вышел из своего дома маленький Коффен; держась поближе к стенам и насвистывая, он добрался до дверей каретника. Мольн открыл ворота, окликнул Коффена, и через минуту мы все трое уже были внутри жаркой, озаренной красным пламенем мастерской, куда время от времени внезапно врывались ледяные струи ветра. Коффен и я, поставив ноги в грязных башмаках на белую стружку, уселись поближе к горну; Мольн, засунув руки в карманы, молча прислонился к входной двери. Порой по улице, пригибая под сильным ветром голову, проходила, возвращаясь из лавки мясника, какая-нибудь жительница поселка, и мы оборачивались, чтобы посмотреть, кто это.
Все молчали. Кузнец и его подручный раздували мехи и ковали железо; по стене прыгали огромные, резко очерченные тени…
Это был один из самых памятных вечеров моего отрочества. Я сидел со смешанным чувством удовольствия и тревоги: я опасался, что мой товарищ лишит меня скромной радости – поездки в Ла-Гар, и в то же время я ждал от него, не смея себе в этом признаться, какого-то необыкновенного поступка, который должен все перевернуть.
Временами спокойная и размеренная работа в кузнице на миг прерывалась. Кузнец несколькими короткими и звучными ударами опускал молот на наковальню. Он разглядывал кусок железа, почти прижимая его к своему кожаному фартуку. Потом распрямлялся и говорил нам, чтобы хоть немного передохнуть:
– Ну, как жизнь, молодежь?
Его помощник, не снимая руки с цепного привода мехов, подпирал бок левым кулаком и смотрел на нас, посмеиваясь.
И снова кузницу заполнял глухой шум работы.
Во время одной из таких передышек мимо приоткрытой двери прошла, борясь с ветром, закутанная в шаль Милли, вся нагруженная небольшими пакетами.
Кузнец спросил:
– Значит, скоро приедет господин Шарпантье?
– Завтра, – ответил я. – И бабушка тоже. Я поеду за ними в повозке к четырехчасовому поезду.
– Уж не в повозке ли Фромантена?
Я быстро ответил:
– Нет, тогда нам домой не вернуться!
И оба они, кузнец и подручный, захохотали. Потом подручный лениво заметил – просто чтобы что-нибудь сказать:
– На кобыле Фромантена можно было бы поехать за ними во Вьерзон. За час были бы там. Туда километров пятнадцать. И вернулись бы домой раньше, чем Мартен успел бы запрячь своего осла.
– Да, – сказал кузнец, – у Фромантена кобыла что надо!..
– К тому же он с удовольствием вам ее одолжит. На этом разговор закончился. Снова мастерская наполнилась искрами и шумом, и каждый молча думал о своем.
А когда настало время уходить и я, поднявшись, сделал знак Большому Мольну, он не сразу это заметил. Прислонившись к дверям, опустив голову, он, казалось, размышлял над словами кузнеца. Он стоял, погрузившись в раздумье, глядя словно сквозь туман на мирно работающих кузнецов, и мне вдруг вспомнилось то место из «Робинзона Крузо», где молодой англичанин незадолго до своего отъезда из дома «заходит в лавку корзинщика»… С тех пор этот образ не раз приходил мне на память.








