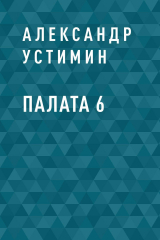
Текст книги "Палата 6"
Автор книги: Александр Устимин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Хорошо, – она помассировала толстую щеку основанием ладони. Будто разгладила тесто для пиццы. – У кого забрать тумбочку?
– У Булыгина. У него практически нет личных вещей. Тем более он уже привязан – не придется доставать веревки, когда начнется истерика.
Мою шутку она не оценила, лишь молча кивнула: мол, всё гениальное просто – рационально подходите к делу, доктор. Постояла несколько секунд, ожидая еще каких-нибудь указаний, затем развернулась и, покачивая массивными бедрами, обтянутыми дешёвыми медицинскими штанами с Алиэкспресса, пошла передавать мои указания санитарам.
Я вернулся в кабинет.
Мой день похож на йогурт для улучшения кишечной перистальтики. В размеренности дня постоянно попадаются всякие злаки и кусочки чернослива. Банально, но мы не можем планировать даже на минуту вперед, потому что не знаем, что забурлит через минуту. И где.
– Григорий Олегович! – истерический крик за дверью кабинета.
Я бросил подписывать документы для суда, выскочил в коридор.
– Отрыжка умирает!
Не знаю, почему его так назвали. Тут вообще сложно разобраться в истории прозвищ. Если в тюрьме с этим всё ясно – есть ритуал, дающий «клубное имя», где коллегиально, основываясь на истории преступления или жизни реципиента, перебирают варианты, – то тут зачастую имена всплывают из хаоса. Был один больной, который из Великого Устюга превратился в Санта-Клауса, а потом просто в Утюга. Хотя так бывает не всегда. Нострадамуса назвали в честь знаменитого оракула – за его предсказания.
– Что случилось?
– Н-не знаем, больные позвали. Хрипит, пульс пропадает.
В первой палате толпа и суета. Толик крутится вокруг койки Отрыжки, санитарка Вера причитает с безумными глазами, Ирина Евгеньевна пучит на меня красные глаза и судорожно хватает губами прокисший воздух тесного мужского помещения, еще одна медсестра пытается задрать умирающему рубашку. Больные сидят по своим кроватям, опустив головы, будто накосячившие пионеры.
– Не дышит!
Вызов скорой, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца… Пульс мерцал и еле прощупывался, подходил к глухому удару и замирал, будто мощный шланг под напором передавили ногой, отпустили и снова передавили. Густая кровь. Сердцу тяжело ее перекачивать.
– Где они?
Палата недоуменно подняла головы.
– Где таблетки, вашу мать?
Артем, грустный недоразвитый малолетка, стремящийся всем услужить, кинулся к мусорному пакету в углу палаты и, порывшись там, достал две пустые пластины из-под таблеток. Протер их кусочком туалетной бумаги, подбежал, положил в мою ладонь и, не поднимая головы, вернулся на койку.
Ламиктал. Препарат, назначаемый при эпилепсии.
Я выругался. Отрыжка был идеальным больным – тихим, подчиняемым. Работал в столовой, мыл полы в коридоре. Я собирался его выписывать, но теперь придержу. Если выживет. Попытки суицида не всегда заканчиваются хеппи-эндом и просветлением, а в случае, когда это происходит в психиатрических больницах, намного чаще всё заканчивается черным полиэтиленом и ямой в ближайшем лесу.
– Кордиамин с аспирином. Живо.
Эпинефрин с обыкновенным физраствором сработал бы лучше, но за неимением приходилось выкручиваться.
Обе медсестры побежали выполнять мое указание и картинно столкнулись в дверях. Комедия, б****.
Не знаю, откуда во мне такое видение мира: эмоционально-напряженные ситуации иногда переходят в режим слоу-моушн. Наверное, иногда мое насыщенное блокбастерами сознание так разбавляло скучную память. Как сейчас.
Кто-то закричал, и картинка остановилась. С необыкновенной ясностью я увидел перекошенный рот Толика, несколько золотых фикс, сверкнувших в тусклом свете мерцающих ламп, напряжение в его предплечьях, жилистые ладони, давящие на хрупкие ребра. Затем воспроизведение продолжилось в замедленном темпе.
Я видел, как набухает капля пота на его лбу, как она падает, переливаясь в свете лампочки Ильича на Отрыжку. Смотрел, как вбегала в палату Ирина Евгеньевна, на ходу выпуская воздух из шприца. Тонкая струйка взвилась вверх, замерла и распалась мелкодисперсной пылью. На секунду мне показалось, что промелькнула маленькая радуга.
«Какой в этом смысл? – думал я. – Для чего вся эта четкость в моём восприятии? Обыденная ситуация моей работы, но сознание почему-то драматизирует… Что хочет сказать мне мозг в такие моменты, в которых не должно быть напряжения?
Вот больные, они испуганные и собранные. Однако их беспокойство не связано с критическим состоянием их собрата – они просто боятся шмона. И, надо сказать, не беспочвенно.
Вот медперсонал, у них двойной страх: боятся моего гнева, ибо понимают, что я знаю, откуда Отрыжка украл ламиктал, и боятся, что пациент станет трупом, ибо вскрытие покажет причину смерти, и тогда их ожидает не только мой гнев. Тогда будет разбирательство.
Вот Отрыжка, наверное, он и сам не знает, зачем сожрал столько таблеток. Возможно, даже не знает, зачем вообще украл их из процедурного кабинета. На его тумбочке лежит наша региональная газета шестилетней давности, открыт криминальный раздел. Там на фото чьё-то измученное в отделе лицо, перечеркнутое красным маркером, на полях какие-то заметки.
Сам Отрыжка в коме, его рёбра трещат от давления, цвет лица из бледного переходит в синий. Зачем живёт? Жил?
Руки Толика снова сильно нажали Отрыжке на ребра. Чересчур сильно, я бы сказал. Он будто вогнал в грудную клетку иглу и с ветерком вдавил поршень. Еще одна игла с лекарством впилась пациенту в плечо. Через минуту кто-то крикнул: «Есть пульс!» – и все рассуждения, которые я вел в жидком киселе замедленной съемки, показались мне ужасно резонерскими. Ощущение просмотра замедленной киносъемки исчезло, события и действия вновь приобрели нормальную скорость.
Я решил было просмотреть газету, но кто-то крикнул:
– Дышит!
Толик перекрестился.
– Носилки, – сказал я.
Аспирин разжижает кровь, кордиамин стимулирует сердце, плюс санитар в качестве дефибриллятора – и Отрыжку удалось откачать.
В машине скорой помощи я одну за другой курил сигареты и смотрел в блестящее от сала и пота лицо этого парня. Он попал к нам из интерната пять лет назад, за двойное убийство. Зарезал в туалете двух ребят, пытавшихся по указанию воспитателя его «опустить». Помню, когда я изучил его анамнез, то подумал, что в отделении появится опасный бунтарь, головорез, но увидел лишь очередного ребёнка. С пятнадцати лет он практически не изменился: те же мясистый нос, высокий лоб и ямочки на щеках. Пять лет без амфетамина сделали его даже моложе, чем он был прежде.
Отрыжке тогда очень повезло: за два трупа он мог получить спец-интенсив. Помог директор интерната: нашел деньги, заплатил кому надо, тем самым загасив общественный резонанс. А эксперты из Сербского и прокурор пожалели мальчугана: дали наш режим, позволили сохранить немного рассудка.
Я вдавил сигарету в пустую банку из-под колы и закурил ещё одну. Фельдшер очень неодобрительно стрельнул в меня красным глазом.
– У этого парня два жмура, – сказал я.
Фельдшер безразлично пожал плечами.
– Знаешь, многие думают, что вся жесть – в тюрьмах или в таких заведениях, как наши, – я выпустил густой, как миазм Волан-де-Морта, клуб дыма. Он медленно взлетел и растекся по потолку автомобиля скорой помощи, контурно вибрируя в такт наездов машины на кочки. – Нет, вся жесть – там, где растут сироты. Просто это не принято освещать для широкой общественности.
– Дети вообще жестокие существа, а когда растут в грязи – вдвойне, – поддакнул мне фельдшер, поправив сбившуюся на очередной кочке капельницу.
– Не куришь?
Он покачал головой и отвернулся, а я начал искать причины этой нелепой попытки суицида. Может показаться, что такие, как Отрыжка, только и думают, что о самоубийстве, но это не так. Судя по моей практике, подобное – редкость. Случай Отрыжки – лишь пятый за всю мою практику. Причины всегда банальны, обычно они лежат под матрасом. Надо было сразу прошмонать палату…
Что-то не отпускало моё сознание, какая-то мелкая, но важная деталь, странное предчувствие…
Фельдшер зашуршал «Горшковским вестником».
– Газета… – пробормотал я.
– Хотите почитать?
– Нет.
От никотина тошнило. Я потушил недокуренную сигарету и сделал зарубку в памяти: надо посмотреть то издание с тумбочки. Что-то подсказывало мне: ответ там.
Не лишним будет сказать, что я забыл это сделать. Но эта газета всё же попала мне в руки – позже…
Почти весь день я пробыл в отделении реанимации. Палата. Куда положили Отрыжку, была как две капли воды похожа на нашу палату № 6. Думаю, эта бело-зелёная окраска стен в стиле хрущевского подъезда прописана в каких-нибудь СНиПах как обязательный атрибут отечественной медицины. Такие стены, говорят, успокаивают. Не знаю, не знаю… На меня в таких стенах всегда нападали меланхолия и лёгкая посткоитальная депрессия. Будто я трахнул свой мозг солнечным, пахнущим свежей краской советским фильмом про добро.
– Мне тоже когда-то хотелось закончить вот так, – произнес я.
На сгибе локтя Отрыжки был синяк – медсестра пробила ему вену насквозь; из второй руки торчала трубка. Во взгляде смесь вины и безразличия. Два «матраса» ламиктала кажутся хорошим выходом, но…
Отрыжка с интересом моргнул, ожидая продолжения, но я не нашёл нужных слов. Потому что не видел счастливого конца его жизни. В принципе, как и любой жизни.
– Там был свет. И родители, – сказал он и сглотнул. По судорожному движению кадыка было видно, насколько у него сейчас вязко во рту.
– Всё, что ты видел, связано с недостатком в твоем организме кислорода и глюкозы, – я сторонник честности и академического, что ли, подхода к объяснениям пациентам их отклонений. Многие коллеги меня осудят, но нельзя давать таким пациентам веру в Бога, ибо Бог прощает… – У тебя остановилось сердце. Это были околосмертные переживания. Понимаешь же, что у тебя никогда не было родителей?
Он кивнул.
– Григорий Олегович?
– Что, малыш?
– А у вас есть дети?
– Нет. И не будет, пока этот мир полон агрессии, пока существуют вещи, превращающие круглолицего «подсолнуха» в жестокое быдло.
– Тяжело так… – он прикрыл глаза. Его реплика явно относилось не ко мне.
У меня есть традиция следить за всеми сообщениями интернет-СМИ о моих пациентах. Имею в виду о тех, чьи преступления вызывают хоть какой-нибудь общественный отклик. Особенно интересно читать комментарии читателей под такими постами. Они все безумно однотипны и содержат в себе слепую ярость, призывы к самосуду и недовольство наказанием… Порой хочется показать воочию этим ангелам с праведной пеной на губах, что такое существование делает с человеком. Нет, я не оправдываю преступников, просто не понимаю, чего хотят от них все эти диванные мстители. Смерти? Ладно. Наказания? Вот это читать очень смешно.
У Отрыжки было много интернет-защитников, в комментариях разыгрывались эпические битвы между сторонниками линчевания и теми, кто полностью оправдывал этого преступника. Но мне интересно не это, благодаря своей амбивалентности я принимаю любое мнение, мне в этих сообщениях интересны мелкие биографические подробности, упущенные следователем. Например, один комментатор написал, что Отрыжка работал наркокурьером и сам употреблял наркотики, другой – о нетрадиционной сексуальной ориентации парня. Естественно, неподтвержденным словам верить нельзя, но, наблюдая за тем, как журналисты подхватывали эти слухи и лепили к своей следующей статье, а потом за тем, как расследование в Интернете обрастало новыми подробностями и к финалу представляло собой абсолютно иную историю, чем та, которую привезли мне в желтой папке вместе с пациентом, я смеялся и вспоминал вывод Померанца о том, что стиль полемики важнее ее предмета.
Пять лет назад Отрыжка не имел ничего, сейчас у него есть и того меньше. Когда он освободится, всё, что у него останется, – это полуразрушенные лекарствами органы и усталые глаза на неизменно юношеском лице. И люди будут шарахаться от него во все стороны.
– Какой молодой…
Вошедшая в палату медсестра проверила капельницу, посмотрела на меня.
– Психический?
– Да.
Она устало вздохнула:
– Бедняга.
– На нём два трупа, – сказал я, мне нравилось наблюдать за реакциями на такую информацию.
Медсестра не особо отличалась от наших внешне, но выглядела непьющей. Скорее всего, у неё много внуков, она любит вязать спицами и смотреть Малышеву или Гузееву. Поэтому меня не удивил её ответ.
– Растущие в грязи дети – тоже цветы. Может, опасные, может, ужасные, но цветы.
– За цветами следует ухаживать, – проронил я.
– Воспитывать и любить, – добавила она.
Я кивнул и промолчал.
Многие думают, что будущее ребенка зависит от воспитания. Нет. Ни капли. Оно зависит от окружения. Это легко понять, проработав в любом месте, сквозь которое проходит поток правонарушителей. Мои пациенты попадали к нам в больницу с разными статьями, были из разных слоев общества, разного достатка, диапазон диагнозов тоже был разнообразен; их объединяла только грязь, в которой они росли. И не среда выбирала их, но сами они искали лужу, где можно изваляться.
Механизмы прихода человека к маргинальности в сознании большинства людей ошибочны. Многие думают, что за каждым углом ребёнка стережёт дилер, жаждущий продать ему немного наркотиков, порнографии, бунтарских идей, посадить на иглу. Фишка в том, что такое отношение к проблеме как раз и заполняет планету говном. Оно самовоспроизводится и покоряет новые и новые территории. Чистые клочки остались разве что в Гималаях, и то скоро и под древними камнями будут искать закладки дети тех, кто перебрался туда в поисках чистоты.
Не спрятаться. Мы сами создали эту среду. Остаётся ждать. Ждать, когда общество потребления разведет в ложке дозу для самого себя и сделает, наконец, золотой укол. Круг замкнется. Уроборос укусит свой хвост.
Отрыжка заворочался, прикрыл глаз:
– Когда я вернусь домой?
– Надеюсь, это был риторический вопрос?
***
По вечерам я откупоривал бутылку пафосного бурбона и смотрел американское кино. Это моя страсть: бурбон – с тех пор как слез с наркоты, кино – всю жизнь.
Я садился в кресло, ставил на столик лэптоп, бутылку, стакан, салфетки и погружался в свой идеальный мир, где любая банальность похожа на афоризм Шопенгауэра, а любой диалог звучит так, будто Сенека и Лао-цзы делят лошадей в салуне Дикого Запада. Я любил кино, она наполняло мою жизнь смыслом.
В тот вечер я смотрел «Джокера». Историю о пределе терпения, историю о пробуждении гнева. Сказку про гадкого утенка или лучше про унылый чертополох, расцветающий в опасную своей сексуальностью орхидею.
Я наполнял стакан «Джеком», выпивал залпом и растворялся в кино-алкогольных парах. Через полчаса ещё порцию. Так проходил мой обычный вечер.
Любой кассовый фильм наполняет меня откровениями, вселяет новые идеи. От «Джокера» я ожидал понимания механизмов зарождения бунта в душах несдержанной молодёжи. Хотелось своими глазами увидеть, как свобода, пусть и мнимая, продаётся за эпатажные жесты. Я не про героя фильма, конечно же, а имею в виду зрительские интерпретации загруженного в ленту посыла.
Но погрузиться в фильм до конца не получалось, голова была полна другим. Герой страдал, расцветал, уходил в закат по коридору психбольницы, оставляя за собой цепочку кровавых следов, а я прокручивал в голове прошедший день и почему-то сравнивал улыбку Джокера с той хмурой физиономией с фотокарточки из желтой папки.
Мы вернулись в нашу больницу только после ужина. Таксист попался из тех, которые скрипят зубами после моей реплики о двух трупах, даже не вникнув в контекст. Неудивительно, что он даже не дождался, пока из отделения выйдет санитар мне на помощь, – машина рванула с места, стоило хлопнуть дверцей.
«Дома» нас ждали, поэтому персонал был трезв и на своих местах. Обычно они начинали самогонный угар, когда кончался мой рабочий день – после четырёх. Теперь было уже семь часов вечера, но их лица были сосредоточенными. Приятно знать, что тебя уважают настолько, что готовы отложить вечеринку.
Конечно же, Отрыжку пришлось перевести в шестую палату и привязать. Он еле стоял на ногах и не сопротивлялся. Понимал, что виноват.
– Первый раз, малыш? – спросил я просто так. Толик тем временем завязывал Отрыжке вторую руку.
Отрыжка кивнул и вымученно улыбнулся. Я ожидал, что он попросит прощения, спросит, сколько дней предстоит лежать, но он лишь отвернулся и закрыл глаза. Кажется, сразу уснул.
– Хомут уберите. Достаточно четырех точек. И не затягивайте ноги слишком сильно.
Шестая палата заполнилась под завязку. Четырнадцать человек, которым требуется усиленное наблюдение…
Я огляделся. Больные наблюдали за происходящим, кто напряжённо, кто безразлично, кто изображал смирение, а кто-то вообще спал. Двое были привязаны. Я подошёл к койке Булыгина; он раскинулся в позе сломанной куклы, увитой хомутами, как виноградом. Оттянул ему веко – зрачок сужен до макового зёрнышка, результат смеси аминазина с азалептином. Значит, истерика по поводу тумбочки всё же была.
– Вечерний обход, док? – подал голос Нострадамус. Он лежал через койку и читал книгу в потрепанной красной обложке. Прищурившись, я прочёл название: «История КПСС».
– Можешь считать, что да, – ответил я. – Как вам новенький?
– Улёт, – восторженной модуляцией хриплого баритона ответил Нострадамус и погрузился обратно в книгу. Я решил понять это как «хорошо».
Новенький спал. Во сне люди не выглядят привлекательно, а когда спят на разложенных носилках – вдвойне. Из-под одеяла торчала обритая наголо голова, центр лба украшал засохший прыщ – как будто бинди. С другого конца одеяла торчали ноги в стянутых до кончиков пальцев черных носках, жёлтые пятки отражали свет энергосберегающей лампы.
Верхней половиной тела он спал на боку, но положение его ног указывало на параллельность позвоночника полу. Выглядело это так, будто под одеялом два разных человека; голова прилипла виском к подушке, плечо бугрилось ввысь, ноги же лежали ровно, кончики пальцев смотрели в потолок. Чтобы так спать, в районе пояса нужно сделать мощную скрутку. Неестественно.
В изголовье носилок стояло четыре пакета с личными вещами: Tommy Hilfiger, Levi's, «Спортмастер», Wildberries. Пухлые пакеты: одежда, еда, парфюм, книги – я провел небольшой шмон, оставивший во мне осадок неприязни к новенькому.
Нет, мне плевать на то, что у преступника в заключении есть доступ к хорошим вещам; такие, потеряв свободу, страдают больше неимущих. Меня коробит социальная пропасть, которая плохо влияет на тех, кто беднее: они будут испытывать зависть, а иногда и классовую ненависть. Один хорошо одевается и хорошо питается, другой сидит на гособеспечении, баланде и одевается в пижаму. Как тут привить сознательность?
– Паренёк в порядке, – сказал Нострадамус, заметив, что я не спешу покинуть палату. – Заехал – сразу колбасу модную об колено разбил, подарки всем раздал, – он сунул руку под подушку и вытащил белые носки Adidas. – Мне вот достались носочки молодёжные…
– Журналы с бабами дал полистать, – добавил ещё один больной из угла.
– Тебе лишь бы баб, Борода. Зубы вставь сначала.
– А чо зубы?
– Ничо. Пропил за чай зубы тухлые свои, – гнусавенько пропел Циклоп из другого угла.
– Не, ему их бабка выпердела! – крикнул Медведь.
– Смейтесь, смейтесь… Пожрёте с моё толчёного аминазина – посмотрю, что от ваших останется.
– Чистить вежей надо, тогда хорошо будет.
– Что за вежа?
– Говно свежее.
Палата номер шесть захохотала. Буллинг – любимое занятие в любых местах заключения. В больнице это одно из наилюбимейших занятий пациентов, во время которого они забывают даже про начальство. Я обожал эти редкие моменты, когда можно было в полной мере насладиться поэзией психиатрической грязи.
– Борода, а?
– Чо?
– Ты когда парашу по продолу несёшь, представляешь, что идёшь по деревне с бидоном молока?
Борода был флегматичным крестьянином и сейчас находился в ремиссии после брутального психоза. Вялая травля – отличная проверка его психики.
– А ты когда сосешь, представляешь леденец? А, петушок? – отмахнулся он.
Снова хохот. Луч внимания переместился на Циклопа – отстающего в развитии вора-рецидивиста. Катается по психбольницам с малолетки, не умеет читать и писать. Насчёт него у меня иллюзий нет, я держу его, как если бы он сидел в тюрьме. Таких рано или поздно приходится выписывать назад к водке, кражам какой-нибудь мелочи и возвращению сюда. И так снова и снова, пока нейролептики окончательно не убьют его мозг.
– Ты, бля, ведро с говном таскаешь, а базар по-блатному вести пытаешься, – вяло отреагировал Циклоп.
– Кo-ко, – забавно округлив губы, изрек Борода.
– Кo-ко-ко, – подхватила палата.
– Отъебитесь от пацана, – хохотнул Медведь. – Он может себе позволить за пачку чая на х** сесть, а у нас на это не хватит мужества.
– Мне твои шутки, что ремонт маршрутке. До п****.
– Это не шутки, мы встретились в Ми-и-шу-утке, – похоронным басом запел Борода.
– Данс-данс!
– Пыщ-пыщ.
Вечерние таблетки начали действовать. Блокада дофаминергической передачи заглушила бредовые концепции их сознания. Короткая перепалка затихла, замедлилась, будто песня в севшем плеере.
Я прокашлялся:
– Пора спать, ребятки.
Обо мне тут же вспомнили: тринадцать котят с физиономиями Чикатило виновато подняли головы.
– Новенького не обижайте, – сказал я.
– Не бу-удем, – дружное «му» моего детского сада.
Я кивнул Толику, он всё это время нервничал в стороне, не знал, как поступить: то ли орать на пациентов за неприемлемое поведение, то ли мне уши закрыть. Стыдно ему за них. И за медицину в целом.
– А новенький крутой, – сказал напоследок Нострадамус, когда я уже выходил из палаты. – Про Тимоти Лири задвигал. И про трансперсональную психологию. Говорил, что сознание не является результатом работы человеческого мозга. Типа, как видосы на Ютубе не являются продуктом экрана смартфона – их источник вовне.
– А ещё что рассказывал?
– Про бунт, революцию. Феминисток хвалил. Ругал Грету Тунберг…
– Занимательно. Всё?
– Нет, – Нострадамус покачал головой. – У меня предчувствие, что грядет что-то интересное. Я видел татуированных карликов и синее пламя.
Я внимательно посмотрел на него и вышел из палаты.
Налив в опустевший стакан немного виски, я закрыл лэптоп. Джокер расцвёл. Ради финала стоило посмотреть фильм до конца. «Долгий апогей сорванной резьбы», как пел Егор Летов.
Не знаю почему, но в тот вечер у меня зародились стойкие ассоциации между Джокером и новым пациентом. Это было удивительно, потому что обычно я ассоциировал понравившихся героев с самим собой. Мне нравилось некоторое время примерять на себя свежий образ, думать так же, как протагонист блокбастера, говорить его фразами. Кто-то периодически меняет свой имидж, я же менял модель мышления.
Но, похоже, я слишком стар, чтобы ассоциировать себя с Джокером.
Покинув палату, я направился в свой кабинет. На столе лежал конверт с делом новичка, на нём зелёная полоса.
Это было странно, потому что зелёная полоса на папке с анамнезом означает дезорганизацию, склонность к бунту. Новые больные прибывали в основном с полосами синего или красного цвета, то есть были склонными к суициду или к побегу. То, что парня привезли к нам из спец-интенсива, ни о чём не говорило. Режим назначают исходя из состава преступления, точнее – из опасности, которую преступление несёт обществу, а не исходя из особенностей личности преступника. Бунтари в психиатрии редкость. Этот был для меня первым.
С интересом я разорвал желтую бумагу. Под ней цветная папка. ФИО, дата рождения. Целый букет статей: покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков, оружия, сопротивление правоохранительным органам, экстремизм.
Пробежал по диагонали историю. На удивление мало информации: 2014 год, Виктор Владимирович N в состоянии наркотического опьянения выходит голым на улицу, имея при себе спортивный арбалет и листовки с провокационными антиправительственными лозунгами. Разбрасывает листовки, стреляет в прохожих, призывает к свержению власти и к всеобщей амнистии. Всё. И ничего конкретного; такое впечатление, что следователь упражнялся в канцелярской стилистике – сухой текст на десять страниц.
Немногим более подробно окончание: при попытке задержания он ранил полицейского и скрылся. Задержали на следующий день. Куда ранил, как скрылся, где задержали, не сообщается, зато после этого следователь на двадцати страницах приводит результаты всех экспертиз: от дактилоскопической и баллистической до психиатрической. Я не стал копаться в остальных, открыв сразу психиатрическую.
Профессора́ тоже «порадовали»: в одном коротком абзаце умещались диагноз, симптоматика психоза и короткая заметка о перенесенной в детстве травме головы. В общем, кроме того, что парень страдает параноидальной шизофренией эпизодического типа, я не узнал абсолютно ничего. Паралогическая расшифровка русских пословиц не в счёт – паралогическое мышление характерно для большей части моих больных.
Переворачивая страницы, я всё больше и больше испытывал недоумение: больше половины документа занимала развернутая биография. Детский сад, школа, бесчисленные секции, показания друзей в формате интервью, тонны положительных характеристик… Такое невозможно собрать в рамках уголовного дела. У меня складывалось ощущение, что кто-то намеренно издевается надо мной.
Когда я дошёл до части, где было написано, что на момент задержания Виктор учился на втором курсе режиссерского факультета, на кафедре теории драматургии, мои брови были готовы сорваться в гиперпрыжок к Альфе Центавра. Я понимал, что не усну без беседы с ним.
***
– Знаю, что тебе не интересно, но вот результаты тестов.
– В них мало смысла.
Оля бросила на стол тонкую пачку бумаг и грациозно опустилась на стул.
– Как они это делают? – спросила она.
– Что?
– Обманывают СМИЛ.
– Элементарно. Завидую твоему удивлению.
Она вытащила из стопки лист, пробежала по нему глазами – быстро, словно по неожиданному сообщению от человека, от которого сообщение не ожидалось. Потом прищурилась на какую-то фразу и подняла глаза на меня.
– Корнеев. Достоверность полная. По результатам он сбалансированная спокойная личность, флегматик, склонный разве что к нарциссизму. Рекомендованные профессии – писатель, адвокат, библиотекарь, – она вернула бумагу на место, скрестила руки на груди. – Как, блин, такое возможно, учитывая, что он женщину изнасиловал, а сейчас каждый день попадает в навязки за драки и агрессию в отношении медперсонала. С остальными такая же фигня: по результатам они все пай-мальчики.
– Этот опросник устарел лет двадцать назад, – ответил я. – Для того чтобы алгоритм посчитал результаты достоверными, достаточно правильно ответить на вопросы ключа лжи. «Я иногда вру» – да. «Бывает, что мне приходится скрывать от других людей некоторые свои поступки» – да. «Я всегда говорю только правду» – нет. И так далее. А то, как создатели теста замаскировали этот ключ, лично у меня вызывает усмешку. После вопроса «Хочется ли мне иногда причинить вред человеку» стоит вопрос «Я никогда не вру». Только идиот не догадается, как ответить.
– Да, но раньше они не догадывались. Результаты сошли с ума после того, как я вернулась из отпуска. Это тенденция последнего месяца!
Я улыбнулся. Мне были известны причины, но раскрывать их не хотелось.
– Вижу, тебя не слишком это беспокоит, – после паузы сказала она.
– Нет.
Оля одернула юбку, поправила непослушную прядь коротких волос и с вызовом посмотрела на меня.
– Ты слишком мягок для заведующего судебным отделением.
– Просто я реалист. А ты слишком строга для психолога. Ваша братия обычно испытывает большее сочувствие к убогим.
В дверь кабинета тихо постучали. Вошла Ирина Евгеньевна.
– Еще одного привезли. В шестой мест нет, – она неуверенно подошла к столу и положила передо мной папку с историей.
– Корнеева в первую. Новоприбывшего на его место.
Медсестра кивнула и так же медленно, слегка криво, словно по кочкам сквозь туманное болото, вышла.
– Я феминистка, – сказала Оля. – Сочувствовать патриархальным отморозкам будет офигенно неправильно.
– Возможно, – кивнул я.
Она ждала, что я разверну мысль, отвечу контраргументом, но я молчал.
– И всё? «Возможно»? Твоя манера общения – еще больший пережиток патриархата, чем твои пациенты. Ты обчитался Хемингуэя.
– Так и есть.
– Иногда ты просто бесишь.
Я отпил остывший кофе из своей кружки и разорвал бумагу на истории нового пациента. Пробежал глазами первую страницу, отложил в сторону.
– Я никого не оправдываю. И не предлагаю давать им право на ошибку, – сказал я. – Но те, кого мы лечим, склонны к совершению зла больше других. Как ни парадоксально, но их вины в этом только часть. И стигматизация, которой они подвержены больше обычных шизофреников, гибкое сознание и недостаток образования должны вести если не к оправданию, то хотя бы к пониманию причин их поступков.
– Ты считаешь, что диагноз отделяет человека от его поступков? Типа «Ой, это сделал я? Не может быть. Гребаные голоса».
– Я так не считаю, но вообще-то так и есть. Задумайся над тем, что все сидящие здесь не сделали ничего общественно опасного хладнокровно. Каждое невменяемое преступление обусловлено множеством внутренних факторов, толкавших реципиента к своему манифесту. У здоровых людей это называется аффектом и частично принимается и оправдывается обществом. Здесь тот же аффект, только вызванный не оскорблениями реальных людей или, например, долгими истязаниями, а пресловутыми «голосами». Добавь сюда влияние среды – получишь пациента. Это не вечный вопрос про дрожащую тварь и право – это то, что создали мы… общество.
– Ты смешиваешь понятия. Психоз одно – под ним нет воли, «голосовики» же вполне способны отделять бред от действительности. Девяносто процентов твоих больных убийц попали сюда осознанно.
– Возможно, но психоз мог случиться немного ранее или сразу после преступления, – ответил я. – Когда я сказал про манифест, то имел в виду не само преступление, а именно вспышку. Пойми, это изменение сознания на биохимическом уровне.
– Но с голосами-то ты согласен? Что их можно отделять.
– Если ты Джон Нэш.
Я опрокинул остатки кофе себе в горло и попытался сделать взгляд серьезным.
– Проблема в том, что сто из ста наших пациентов не Джоны Нэши. Они неграмотны, жестоки и ведомы. Их любимые телепередачи показывают по РЕН ТВ, они голосуют за президента, зная только его имя, и так же не принимают то, чего не понимают.
– А еще они воруют, грабят, убивают, – фыркнула Оля. – Как и все граждане нашей страны, да?
– Верно, – я улыбнулся. – Жизнь – хищник. Ее когти и клыки в крови. Люди жаждут крови. Все. И я их в этом не виню. Только статистика же тебе известна? Сколько у нас в стране психически больных и сколько из них хоть раз проходили по уголовным статьям? А сколько простых уголовников…








