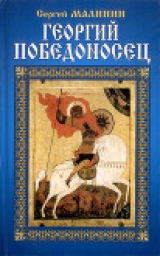
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Сергей Малинин
Георгий Победоносец
OCR Mysuli
Глава 1
Лето в год от сотворения мира шесть тысяч восемьсот пятидесятого, от рождества же Христова тысяча триста сорок седьмого, выдалось на диво жаркое и засушливое – такое, что по деревням, а порою и по боярским хоромам начали всё чаще заговаривать о скором конце света. Дескать, пожили, и будет, и слава богу, потому как, чем так жить, лучше и в самом деле всем миром отправиться к праотцу Аврааму на пиво – там, во облацех, ежели верить попам, живётся как-никак полегче, нежели в скорбной земной юдоли.
И похоже, всё к тому и шло. Как ни крути, а знамений в то лето было хоть отбавляй. Ходили в ночи по небу огненные столбы, а днём однова́ видали смерды из деревеньки Луговой, что в боярина Долгопятого вотчине, как в небе две рати насмерть секлись – конно, людно и оружно, как тому и быть надлежит. Колыхались, скрещивались и ломались над сечей хвостатые копья, вставали на дыбы и рушились, подминая всадников, гривастые кони, и мелькали над битвой русские мечи и кривые иноземные сабли. Петруха Замятин, долгопятовский холоп, сказывал, что узнал в первом ряду знакомого мужика из соседней деревни, в княжескую дружину за рост да стать молодецкую взятого. Хотели мужики всем миром Петруху Замятина в батоги взять – известно, что ты за птица, коли у тебя в таких ратях знакомцы водятся. Насилу он убёг и в лесу три дня хоронился – ждал, покуда народ поостынет. Это уж потом, когда до боярина гонец от соседа доскакал, узнали люди, что рубилась в тот день дружина воеводы Ярослава с войском татарского хана Батыя, из Орды за данью посланного, и знамение сие, по всему видать, Господь нарочно явил, чтоб православных христиан об этой напасти предупредить. Да и то сказать, годков с десяток уже, как татарва проклятая по здешним местам с огнем и мечом не хаживала, – поотвык народ, успокоился, забыл, каково оно – на пороге родной избы от супостата косоглазого вилами отмахиваться.
А Ярослав-воевода вместе с дружиной в той сече лёг. И не миновать бы великой напасти, кровавой татарской резни, кабы не встала у татарвы на пути крепким заслоном московская рать. Собирались второпях и без большой охоты – князья удельные друг на дружку злобились, обиды старые забыть не могли, а до Куликова поля, где московский князь Димитрий, Донским прозванный, силе татарской предел положил, навек ярмо ненавистное с русичей скинув, тогда ещё, как в сказке, оставалось тридцать лет и три года – ровнёхонько столько, сколько Сын Божий на земле прожил.
Но, однако, собрались. Да и как было не собраться, когда супостат, почитай, в самом сердце земли московской объявился? Собрались. Даже Долгопятый боярин, не зело до ратного дела охочий, дружину созвал и самолично в седло взгромоздился. По тёмному да слабому мужичьему разуменью, кабы случилось боярину в сече буйну головушку сложить, от того никому, окромя самого боярина, худа бы не было – издох, и леший с ним. Лют был боярин, пуще зверя лесного лют, и добра от него смерды отродясь не видывали: не отец родной, не заступник и не благодетель, а аспид несытый, волк алчущий, шитый золотом упырь. Посему, ежели бы какой татарин его на пику насадил или срубил кривой татарской саблей бородатую его головищу, какая только и умела, что есть в три горла, пить как не в себя да лаяться богохульно, от такой вести не одна мужичья душа возликовала бы.
Вышло, однако же, иначе. Уцелел боярин, да и иные, кто Москву от татарвы заслонять ходил, целыми по домам воротились. Не случилось сечи, вот и уцелели. Господь в неизъяснимой милости своей явил православному люду предивное чудо: Батый-хан, на поле выйдя, постоял недолго да и в сторону поворотил, силы русской убоявшись. А войска при нём было без малого полная тьма – сиречь десять тысяч сабель, едва не втрое против московской-то рати, с бору по сосенке собранной. Ну, нешто не чудо?
Так-то вот оно чаще всего и выходит: одним чудо, а другим от этого чуда одна только беда и никакого просвета. Боярин Долгопятый, домой воротившись, пуще прежнего взлютовал. Неделю без просыпу с ближними пьянствовал да блудословил – как же, герой, грудью своей Русь от татарвы защитил! И нет того, чтоб ему от мёда да вина заморского, без меры выпитого, там же, в палатах своих, помереть – куда там! У них, Долгопятых, весь род такой, со времён Владимира Красно Солнышко – умом тугие, нрава лютого, зато чревом крепки – хоть ты его каменьями корми, всё ему нипочём. Все они хороши были, из колена в колено один другого хлестче, но нынешний, Гаврила Алексеевич, поди, всех переплюнул. Веками предки мёд да романею в подвалы складывали, а этот, несытый, всё подчистую подобрал – проснулся однова́, а голову-то поправить уж и нечем. Ну, да не об нём речь, а о чуде, кое Господь на ратном поле явил.
Про чудо, грешным делом, мужикам Петруха Замятин рассказал, когда из сидения лесного, страху натерпевшись, в деревню воротился. Встретилось ему на пути войско, которое, железа вражьей кровью не замарав, домой шло, а с войском – старушка юродивая, калика перехожая. Вот она, убогая, Петрухе и поведала, что Москву от татаровья злого в этот раз не князья с боярами дружинами своими отстояли, а сам святой Георгий Победоносец, земли русской и православной веры защитник и охранитель.
Петруха, простая душа, про такое диво услыхав, чуть было последнего ума не лишился от великого изумления. Помстилось ему, будто так оно на самом деле и было, как старушка убогая сказывала: что выехал сам святой Георгий перед ратью на коне белом, красоты невиданной, в светозарных доспехах и златым копьём в могучей деснице, от коего свет неземной войско вражье ослепил и в бегство поверг. Да на деле-то, конечно, всё не так произошло: Господь силу свою великую явил через святой чудодейственный образ Победоносца, с коим русская рать на поле вышла.
Сказывала старая, перед самой битвой, когда полки уж начали в ряды на поле строиться, явился к войску монашек – молодой, роста невысокого и из себя не особо видный. Обыкновенный, словом, монашек. Откуда он пришёл, никому не ведомо – мало ли, в самом деле, меж Москвой и Коломной монастырей да пустыней? В те поры монахам не зазорно было за оружие браться, боронить истинную веру не молитвой да ладаном, а мечами да копьями. Промеж монастырской братии тогда такие богатыри встречались, что не всякого и впятером осилишь, да и сами монастыри не зря так строились, что от крепости не вдруг отличишь. Что и говорить, жизнь была суровая да короткая, и частенько случалось, что православный инок, грамоты не ведая, с луком, стрелами да мечом управлялся не хуже княжеского дружинника.
А только монашек, про коего юродивая сказывала, был не таков – ни годами, ни статью для ратного дела не вышел. Стан тонкий, в плечах узок, ликом светел – Божий, одним словом, человек. И была при нём икона, в тряпицу завёрнутая. Прошёл он, слова никому не говоря, меж полками, поднялся на пригорочек, тряпицу размотал и поднял над головой образ святого Георгия. И будто бы пошло от иконы сияние, и дальше было будто бы всё в аккурат так, как Петруха Замятин выдумал: дрогнуло вражье войско, попятилось, развернулось и с поля ушло. Даже тетивы никто не натянул. А монашка тем временем и след простыл, и куда он подевался, никто не видал. Не иначе был это никакой не монашек, а самый настоящий ангел, Отцом небесным посланный православному воинству.
Мужики, которые Петруху слушали, не то чтобы совсем уж не поверили – как ни крути, а татарин с поля без боя ушёл, о чём никто из них отродясь не слыхивал, – но насчёт ангела и всего прочего малость засомневались. Нет, кабы это кто другой рассказывал, а не Петруха Замятин, первый на всю деревню пустозвон, тогда бы другое дело. А так… У него ведь всю жизнь этак-то – язык без кости у человека, вот он и плетёт, чего сам не ведает. То он в лесу лешего встретил, то русалка его из реки манила, в гости зазывала, то, как давеча, он в небесном явлении знакомца углядел – ну, не пустозвон? Пустозвон и есть, и бить его мужики хотели не потому, что взаправду за колдуна какого посчитали, который с нечистой силой знается, а только чтоб поучить дурака малость, язык ему укоротить, дабы не молол он этим языком богопротивной чепухи. А только дурака, сколь ни учи, всё без толку. Эвон, три дня голодом в лесу просидел, страху, сказывает, натерпелся, а вернулся и сызнова за своё – про ангелов врать. Старуха, главой скорбная, сказочку ему рассказала, а он и радёхонек – собрал вокруг себя полдеревни и пересказывает. Да ещё небось и от себя присочинил, чтоб красивей казалось.
Оно, конечно, без небесного вмешательства дело и впрямь не обошлось. Да только не Петрухе Замятину об этом говорить – что он, пустозвон, в Божьих делах смыслить может? То-то, что ничего.
Словом, посмеялись мужики – не над святым Георгием, ясно, и не над православным воинством, коему Господь не дал в поле до последнего ратника полечь, а над глупыми Петрухиными речами. Осерчал тогда Петруха. «Я, – говорит, – коли так, совсем от вас уйду, подамся к монахам в пустынь». Шапкой об земь ударил и пошёл куда глаза глядят.
* * *
Ну, это-то дело посерьёзней бабьих сказок вышло. Староста деревенский, хромой дьявол, забоялся беглого перед боярином покрывать и сей же час к боярскому тиуну – к самому-то боярину его, смерда, и на двор не пустили бы, да он туда и не шибко рвался, ибо, как и все долгопятовские холопы, властителя своего боялся до дрожи в коленах. Так, мол, и так, сказывает тиуну, не губи, отец родной, а только вышла среди боярских холопов, над коими ты надсматривать поставлен, такая оказия, что Петруха Замятин, смерд неразумный, надел свой бросив, к старцам святым в пустынь утёк, а в которую – не сказал…
Вот ведь до чего язык-то довести может. Жил себе человек, никого не трогал, худа никому не желал. И барщину справно отрабатывал, и на своём наделе поспевал – работящий, словом, мужик. Только язык имел долгий да болтливый, а так – ништо мужик. Как все. И вот через язык-то оказия и вышла – сболтнул, не подумавши, раз, сболтнул другой, глядь, а уж и глаз подбит, и бока ломит, и от барина сбежал, и погоня за тобой верхами, и, главное, податься некуда.
Выбежал Петруха за околицу. Нутро от обиды кипмя кипит, только что дым из ноздрей не валит. Пропадите вы, думает, пропадом, без вас обойдусь, ежели такие умные. Однако, версты три лесом отмахав, поостыл мужик, призадумался, и обуяла его печаль. Ведь не думал, не гадал, а на-кося – убёг! Куда убёг, зачем? К старцам, в пустынь? Да какой из него монах, какой такой инок? «Отче наш» ещё кое-как, с пятого на десятое, затвердил, а дале – ни в зуб ногой. Да нет, старцы-то примут. Они, Божьи люди, сирым да убогим не отказывают. И руки в монастыре лишними не бывают, и лишний голос в молитве Всевышнему не помеха. А только – ну, скука ведь! Работы столько же, сколько в деревне, а то и поболе, живи впроголодь, Господа пустым брюхом славь, и до скончания века без бабы. Это же помыслить страшно! С бабой, конечно, тоже житья никакого, однако и без неё как-то непривычно – вроде недостает чего-то…
Неохота стало Петрухе Замятину в пустынь идти. А ежели не в пустынь, тогда куда же? В лес, на большой дороге с кистенем баловать? Да нешто это жизнь? Петруха – мужик тихий, семейственный. Какой из него душегуб?
Вот и выходило, что вперёд идти боязно, а назад нельзя: всей деревней засмеют, света белого невзвидишь. Да что засмеют-то – это ладно. Староста, хромой пёс, поди, уже тиуну в ухо нашептал, что Петруха в бега подался. А с тиуном шутки плохи – и слушать ничего не станет, разложит на бревне и, коли сильно осерчает, того и гляди, насмерть запорет.
А тут ещё, как на грех, обеденная пора незаметно подкралась, и вострубили у Петрухи в пустом животе трубы иерихонские, да так громко, что он даже испугался: а ну, как лихие люди услышат али зверь какой? И припомнилось – это уж, как водится, одно к одному, – что войско басурманское, без боя с ратного поля уйдя, по сей день где-то недалече бродит, от православного воинства хоронится. А чем к татарве в полон угодить, лучше уж, ей-богу, тиунов кнут.
Совсем Петруха остыл, по свету бегать передумал и решил, пока не поздно, домой, в деревню, воротиться. Может, староста догадался не сразу к тиуну бежать. Так оно, глядишь, и обойдётся. А ежели не надоумил Господь старого пса, что не по всякому чиху к тиуну с доносом спешить надобно, так ему же, старосте, и хуже. Тиун в деревню прискачет, а Петруха – вот он! Будто и не уходил вовсе. Мало ли чего он мужикам, на их насмешки осерчав, сгоряча сказанул! Вот и выйдет, что старосте за навет да за тиуново беспокойство – по уху, а Петрухе, может, и ничего. Ну, ожгут разочек кнутом для острастки, так ему не привыкать. А что смеяться станут, это тоже ничего – посмеются и перестанут. Стыд не дым, глаза не выест…
И только он, стало быть, собрался назад поворотить, как видит – идёт по дороге монашек. Годами млад, станом тонок, волосом светел, а ликом кроток, аки ангел или блаженный. Подрясник на нём пыльный да обтрёпанный, скуфьи и вовсе не видать – потерялась где-то, не иначе, потому как инок – не мужик, ему одеяние с себя пропивать по чину не положено. Идёт себе, пыль босыми ногами вздымает, а под мышкой – узелок.
Подошёл монашек поближе, и видит Петруха, что лицо да руки у него сажей перемазаны и что гарью от него разит так, словно он не с молебна, а прямиком из чёртова пекла на дорогу выскочил.
От особ духовного звания, ежели не в праздник, Петруха Замятин старался держаться подальше – просто так, на всякий случай, по стойкой мужицкой привычке не будить лихо, пока оно тихо. Однако теперь, пребывая в печали и тревоге, а равно соскучившись по человечьему лицу, решился с монашком заговорить. Тем более что вреда от него, агнца Божия, никакого не предвиделось – сразу видно, что телом слаб и что в случае нужды Петруха его одной рукой в бараний рог свернуть сумеет.
А ещё подумалось: вот он, знак-то! В самом-то деле, откуда бы это монашку посреди леса взяться? Да ещё в то самое время, когда раб Божий Петруха как раз передумал в монастырь идти! Нет, неспроста он тут появился. Видно, перед Богом и взаправду все равны, и зрит он, Отец небесный, свысока, и до каждого человечка, до всякой травиночки малой ему дело есть. Приметил он, стало быть, Петрухины терзанья да и подал ему, неразумному, верный знак: вот она, дорожка торная, по ней ступай, как раз ко мне и придёшь. А баба твоя – тьфу! Сам подумай нечесаной своей холопьей головой: что такое баба супротив Царствия Небесного? Прах и перхоть, сосуд греховный и боле ничего!
К тому же случай подвернулся знающего человека расспросить: как оно там, в обители, какова на вкус монашеская доля, не лют ли отец-настоятель и примет ли, не прогонит ли беглого мужичонку. А ежели что не так, не беда: монашек-то как раз в сторону Петрухиной деревни шёл, так что Петрухе от попутного разговора никакого убытка не предвиделось: чем идти да молчать, невеселые думы думая, ей-богу, лучше с человеком словечком переброситься, будь он хоть трижды монах!
Ан не тут-то было. Монашек, Петруху увидав, испугался поначалу, отпрянул, но после, хорошенько его разглядев, поуспокоился – уразумел, стало быть, что Петруха – человек мирный, православный христианин и что лиха от него ждать нечего. Однако в ответ на Петрухины речи словечка единого не проронил – молчит яко рыба, только глазищами голубыми хлопает. И не поймёшь, то ли обет на нём, то ли он таким уродился – бессловесным. Хотя от рождения немые – они ведь и не слышат ни бельмеса, а этот, по всему видать, русскую речь разумеет: спросишь его о чём-нибудь – кивнет либо, наоборот, головой из стороны в сторону помотает. Слышит, стало быть. А что не говорит, так это, может, с перепугу или хворь какую Господь наслал. А то, чего доброго, могли и язык вырезать. Лихих-то людей по свету немало: что татары, что бояре – все единым миром мазаны, все для мужика на одно лицо, и всяк норовит власть свою над смердом показать. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!..
Ну, двинулись они, стало быть, по дороге. Идут рядком, и Петруха к монашку всё с расспросами пристаёт. А только много ли у бессловесного выспросишь? Спросил его, издалека ль идёт, – плечами пожимает: дескать, не так чтоб шибко далеко, но и не больно близко. По обету, что ли, в дорогу-то выправился? Головой трясёт – нет, не по обету. А чего тогда? Молчит, аки пень еловый, и улыбается этак жалостливо – ну, ровно собака, которая всё как есть понимает, а сказать не может.
Махнул Петруха рукой и тоже замолчал – не выходит разговора. Вот тебе и знак! Как хочешь, так его и понимай, что умеешь, то и думай. Может, Господь его этаким манером предупредить хотел: не ходи в монастырь, дурья голова, совсем худо будет! В деревне тебя просто слушать не хотели, а в монастыре, гляди, и вовсе без языка останешься. Потому как человеку место своё ведать надобно и всю жизнь оного держаться: ежели родился смердом, крепостным холопом, смердом и умри. И лучшей доли искать – сие есть дело, Господу неугодное. Она-то, доля, может, и лучшая, да не твоя, чужая, а стало быть, и добра тебе от неё не будет…
Идёт Петруха, думы свои невесёлые думает, а сам искоса на монашка поглядывает – не так на монашка, как на узелок, что у него, убогого, под мышкой. Есть-то хочется, а в узелке, очень может статься, хлеба краюха, а то и что-нибудь посытнее. А только чем дольше Петруха на этот узелок глядел, тем яснее ему становилось, что съестного там, под пыльной домотканой рядниной, ни крошки нет. Плоский был узелок, на обрезок доски похожий, а может, на книгу. Книгу Петруха только в церкви и видал – батюшка, отец Иннокентий, по ней молитвы читал. Так той книгой, ежели над головой поднять сумеешь, быка-трёхлетку насмерть зашибить можно. Истинно батюшка сказывал: в вере великая сила… А узелок, что монашек с собой нёс, против батюшкиной книги тонковат казался – ну, доска и доска, чуть поменее локтя в длину, шириной вершков в восемь да с полвершка в толщину.
Вот тут-то и вспомнилось Петрухе Замятину, что старушка, калика перехожая, про Коломенское ратное стояние баяла – про монашка, станом тонкого да ликом светлого, да про икону, кою он из дерюжного узелка вынул, чтоб басурманов ею стращать. И будто пелена у него с глаз упала. Ну, ясно, думает, это же он самый и есть! И в узелке у него не хлеба краюха и не карась вяленый из монастырского пруда, а чудотворный образ святого Георгия Победоносца!
Напал тут на Петруху священный трепет. Да только трепетал Замятин недолго. Мужицкое сословие к трепетанию не приспособлено – шкура толстовата, умишко тёмен и никакой тонкости переживаний. Да и некогда мужику трепетать, ему в поле работать надобно, а там один только трепет и бывает – это когда от непосильной работы к вечеру все поджилки, сколько их в человечьем теле есть, мелкой дрожью трясутся. Такого-то трепетания Петруха в своей жизни наелся досыта, только до небесных священных материй трепетание сие никакого касательства не имело. А которое имело, то, едва возникнув, сию же минуту и прошло, и явилось ему на смену неуёмное любопытство, через кое Петруха Замятин бед и гонений претерпел не менее, а то и более, нежели за свой предлинный язык. Захотелось ему неотменно на чудотворную икону хотя бы единым глазком полюбоваться – авось охранитель земли русской святой Георгий и за него, смерда неразумного, заступится, вразумит и старосту, дурня хромого, и тиуна, пса боярского, и самого боярина Гаврилу Лексеича, дабы не были они, яко волки рыщущие, а стали бы, яко агнцы… Тем более что монашек хоть и безмолвен, а все ж Божий человек и, ежели правильно к нему подойти, замолвит перед святым Георгием верное словечко за раба Божьего Петра.
Петруха Замятин, хоть и смерд, мужик сиволапый, коему предназначено до скончания века сохой землицу ковырять, был умом скор да сметлив. Другой бы на его месте до такого нипочём не додумался, не догадался бы, что за диво монашек под драной дерюгой прячет, а Петруха всё как есть в два счёта сообразил и сразу прикидывать начал, как бы это ему половчей к монашку подкатиться, чтоб тот не заартачился, дал бы ему святой образ узреть. Не драться же с ним, в самом-то деле! Бока ему, убогому, намять – работа нехитрая, да нешто так у святых заступничества просят?
Ясно, решать дело надлежало добром. Петруха уж и слова подбирать начал, да только, видно, не было ему на роду написано чудо узреть – впутался сатана, помешал доброму замыслу осуществиться. Только Замятин рот открыл, чтоб окольную речь повести – о том, стало быть, как тяжко ему на свете живётся, сколь горестей да невзгод он со всех сторон невинно претерпевает и до чего ему, горемыке, заступничество сильного святого необходимо, – как послышался издалека, из-за поворота дороги, тяжкий конный топот и железный лязг.
Петрухе смотреть, кого это там несёт, недосуг – ему, холопу беглому, кто б ни ехал, всё едино пропадать. «Бежим!» – монашку крикнул да и в кусты. Проломился, как полоумный вепрь, через малинник, одёжу порвал, лицо да руки ветками колючими исцарапал – ну, ровно с кошкой подрался – и напрямки через лес бежать кинулся.
А топот лошадиный за спиной всё ближе и ближе. Тяжко топочут, вразнобой – знать, целый отряд, и слышно, что торопятся. Вскарабкался Петруха мало не на карачках на бугорочек, обернулся через плечо, видит – скачут верхами с десяток боярских дружинников. Кольчуги на них железные и железные же островерхие шишаки – так на солнышке огнём и горят, будто не душегубы это, за беглым смердом вдогон посланные, а пресветлая небесная рать беса поганого воевать едет. В руке у каждого пика острая, на боку меч, и щиты к седельным лукам приторочены – ну, ровно и вправду на войну собрались, а не мужика беззащитного ловить. И тиун здесь же – кольчуга яркая, поверх кольчуги плащ бархатный, что у твоего князя. Борода густая, русая, рожа румяная, губы красные, глазищами сверкает – ну, вылитый Георгий Победоносец, только вместо копья, коим змия разить, в руке кнут сыромятный, свинцом заплетенный, – тот самый, которого отведав, не всяк мужик жив оставался.
– А ну, стой! – на весь лес кричит и коня осаживает.
Петруха от ужаса присел – думал, заметили. Ан нет – не ему кричат, монашку. Только тут мужик уразумел, что монашек его не послушал, а может, и не понял вовсе, что деется, – где стоял, там, на дороге, и остался. Решил, надо думать, что ему, Божьему человеку, вреда от православного воинства не будет.
Оно-то, может, и так, монаха обижать грешно, да только Петрухе-то Замятину от этого не легче! Спросят его сейчас, не видал ли беглого холопа, он всё как было и обскажет. Что ж с того, что не разговаривает? Под тиуновым кнутом и мёртвый заговорит, не то что немой. Да ему и говорить-то ничего не надо. Рукой покажет – туда, мол, тать побег, коего ловите – тут Петрухе и конец.
Не стал он досматривать, чем дело кончится, а пригнулся пониже и так, в три погибели согнувшись, кинулся куда глаза глядят.
Убежал он в тот раз от боярского тиуна с дружинниками и домой, сказывали, более не возвращался. Что с ним после стало, про то никому не ведомо. Русь – она ведь большая, леса да реки в ней никем не считаны, просторы не мерены. Звери дикие да лихие люди по тем лесам рыщут, татарва да разбойники – мудрено ль человеку пропасть? Мог, конечно, и к святой обители прибиться, а мог и в глухой дубраве избу своевольно срубить, найти себе какую-никакую бабу да и жить с ней, покуда медведь не задрал или не набрели на его избёнку княжеские дружинники.
* * *
Всяко могло быть, а чего не ведаем, про то и врать не станем. Да и не про Петруху Замятина сказ, а вовсе про другое. Главное, что убежал он в лес, так и не сведав, тот ему повстречался монашек, про коего калика перехожая сказывала, или другой какой. И иконы не видал. А мог бы, поелику монашек ему повстречался истинно тот. Мелькнула, стало быть, удача и пропала, яко рыбина, из рук ускользнув. Упустил – на себя пеняй, раз дураком криворуким уродился.
Так что, ежели хорошенько помыслить, оно и неплохо, что Петруха про икону наверняка не знал. Чего не знаешь, того не жалко, сие издревле известно. Кабы ведал, что и монашек тот самый, и икона при нём, после, поди, совсем извёлся бы, до конца дней своих казнясь: зачем тянул, чего дожидался, почто в ноги святому человеку не пал?
А монашек был и вправду тот, про которого слух до Петрухи Замятина дошёл, а через Петруху – до всех мужиков деревеньки Луговая. Зря они земляку не поверили, и зря он через неверие их пострадал, из родного места в дикий лес убежав, зверям на съеденье.
Монашек же, о коем речь, ежели к нему приглядеться, был мальчонка мальчонкой – отрок невинный, от роду годков тринадцати, не более. Одно название, что монах. Его, сироту горькую, богомаз из Свято-Тихоновой пустыни, брат Илларий, однова́ на пепелище нашёл. В те поры дело это было самое обыкновенное: прошла через те места Орда, дома пожгла, людей кого побила, кого в полон угнала, скотину, какая была, тако ж; как дитя малое уцелело – сие уму непостижимо. Не иначе мать успела неразумного спрятать – сама погибла, а семя своё сберегла, спаси её Господь.
Ну, стало быть, привелось брату Илларию зачем-то через те места идти, и видит он: сидит у околицы сгоревшей деревни мальчонка в одной рубахе и ревмя ревёт – есть-пить ему охота, да и страшно опять же, вот он и заходится. Сжалился инок над мальцом, взял сироту на руки, корку хлебную ему сунул, чтоб замолк, и в пустынь принёс.
Игумен, отец Варсонофий, хоть и духовного звания человек, крепко тогда осерчал. Пустынь-то лесная, убогая, землица родит еле-еле, а зверь, какой был, весь почти что от татарвы подале к северу ушёл – самим-то незнамо как прокормиться, а тут ещё лишний рот. Рот-то имеется, его кормить следует, а рук, вишь, нету – не отросли ещё по малолетству. Ну, то бишь руки-то на месте, как не быть, однако, пока их, руки эти, к работе можно будет приставить, не одно лето пройдёт. В кладовых шаром покати – ну чем спрашивается, огольца кормить? Хоть ты титьку ему суй, а какое в мужеской монашьей титьке для мальца пропитание? То-то, что никакого.
Делать, однако же, нечего – не выбросишь ведь крещёную душу за ворота волкам на съедение! Крестик-то у малого на шее висел – стало быть, окрестить его успели. А хоть бы и не успели, всё одно живая душа, и губить её непозволительно, тем более особе духовного звания. Покряхтел отец Варсонофий, поясницу почесал да и молвил: сам, дескать, принёс, сам его при себе и держи, и корми, стало быть, сам как знаешь. А ежели в содомском грехе тебя замечу, на Господа уповать не стану – возьму грех на душу, сам тебя покараю, да так, что тебе небо с овчинку покажется.
Ну, это-то он вгорячах сказал, для острастки. У брата Иллария грешных мыслей отродясь в голове не водилось, и игумен его ни в чём таком всерьёз заподозрить не мог. И что выкормит богомаз мальца, ни минутки единой не сомневался, ибо знал: Илларий последний кусок отдаст, сам недоест, а мальчонку худо-бедно выкормит.
Нарекли мальца Илией, в честь Ильи-пророка. Тоже ещё была докука: малец-то крещёный, и имя у него, стало быть, имеется. А как узнаешь, у кого спросишь? Сам-то не скажет – мал ещё, едва-едва лепетать начал. «Тятя» да «мамка» – вот и весь его разговор.
Ну и стал сиротка при брате Илларии в его келье жить. Монах краски трёт, молитвы творит да образа с Божьей помощью пишет, а малец тут же, при нём, сидит – глядит да слушает. Ну и ручонками, понятно, что ни попадя хватает – плошку с кармином так плошку, стило так стило, кисть так кисть. Так, бывало, перепачкается, будто брат Илларий об него день-деньской кисточки свои вытирал. Как только подрос, начал воспитателю своему в иконописном деле пособлять – где колер разотрёт, где водицы принесёт, где доску иконную грунтом покроет. Да так-то ловко у него получалось, что со временем брату Илларию иных подмастерьев и не надобно стало. И ничего мудрёного нет, что при таком воспитании отрок уж на пятом году сам к кистям потянулся.
Дав мальчонке подрасти, брат Илларий стал его помаленьку своему ремеслу наущать. Учил как мог – бывало, что и розгами, ибо каноны церковные, от византийцев цареградских унаследованные, нарушать никому не дозволено, а отрок – он отрок и есть: того и гляди, ошибётся, а то и от себя что пририсует. Говорит, для красоты. Я те покажу красоту, богохульник!
Розги ли пошли впрок, или Господь сироту благословил, или другая какая причина, а только работа иконная шла у Илейки день ото дня лучше – так, что брат Илларий скоро и вовсе ворчать да лаяться перестал, а только вздохнёт, бывало, тихонько, потреплет отрока по белобрысой макушке и подумает, что пора ему, старому, на покой – душа к Господу, а кости в земельку, чтоб трава-мурава на монастырском погосте веселей зеленела. Показывал он доски, отроком Илией писанные, отцу-игумену, и тот тоже зело доволен остался. Брат Илларий-то уж и впрямь состарился. И глаз стал не тот, и рука нетверда – того и гляди, опоганишь святой лик сослепу да от немочи стариковской. В самый раз замену себе искать, а замена – вот она, тут как тут. Будто Господь, в положение его войдя, нарочно ему сиротку подкинул, чтоб не осталась Свято-Тихонова обитель без своего богомаза.
Добрый мастер из Илейки получался, только уж больно чудной – истинно блаженный. Тихий, молчаливый, а на тринадцатом году – виданное ль дело в таком-то возрасте! – пристал к отцу Варсонофию: благослови, батюшка, на принятие святого молчального обета. Игумен сперва только отмахивался, потом ругаться начал, а после, видя, что отрок в своём намерении твёрд, помолясь со всем старанием Господу, дал ему, настырному, просимое благословение. К слову сказать, братия, даже Илейкин наставник Илларий, этого почти и не заметила: отрок и без обета был молчалив, слова лишнего не скажет, да и нелишнее, бывало, хоть клещами из него тяни.
Брат Илларий тем временем всё старился и зимой, аккурат на Крещенье, отдал Богу душу. Отпели его в монастырском храме, выбили в мёрзлой земле на погосте яму и схоронили по христианскому обычаю. И никому невдомёк, что был брат Илларий последним иноком Свято-Тихоновой пустыни, кому Господь дозволил своей смертью умереть. Стал Илия в иконописной мастерской полноправным хозяином. Подмастерья не брал – по юношеской своей резвости сам со всеми делами управлялся. Да и на что молчальнику подмастерье? Как им командовать – нешто пальцем в надобное тыкать? А ну как бестолковый попадётся, тогда как же? Это ведь не работа, а одна морока и греховное гневление.





