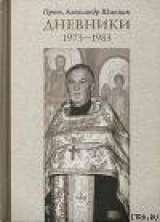
Текст книги "ДНЕВНИКИ"
Автор книги: Александр Протоиерей (Шмеман)
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 58 страниц)
"Властью, от Бога мне данною…": когда это исчезнет в мире, мир превратится в концентрационный лагерь. Он и сейчас уже молится на метафизических пошляков a la Кастро. Смак, с которым западные люди говорят о "les masses"4 ! Прав был Вышеславцев: «трагизм возвышенного и спекуляция на понижение».
1 равновесие сил (англ.).
2 разрядке международной напряженности (англ.).
3 "Последний из гигантов" (англ.).
4 массах (фр.).
Два дня во Флориде: лекции у англикан. Длинные часы свободы и одиночества в отеле. Иное солнце. Пальмы. Чувство первозданной красоты мира, неистребимого счастья. То же самое в Dayton, Ohio, на мариологической конференции (в субботу). Вчера, после обедни, блаженный, солнечный день. Собирал листья в саду. Читал. "Ничего не делал". – "Qui vous a dit que l'homme avait quelque chose a faire sur cette terre?"1 Сегодня: все в инее. Красный, морозный восход солнца.
Пятница, 7 декабря 1973
Вчера праздновали – по новому стилю – святителя Николая. А по старому – Александр Невский, мои именины. Вспомнил, как в этот день, должно быть в 1933 или 1934 году, я проснулся в дортуаре нашего "первого взвода" и нашел на табуретке около кровати подарки – stylo2 Waterman – от Кирилла Радищева. Помню цвет этого stylo, его ощущение в руке. В этот же день – уже в институтские годы – 42-43? – рукополагали на rue Daru о. Сергия Мусина-Пушкина. Почему некоторые дни, со всеми их подробностями – погодой, количеством света и т.д., так врезаются в память, так остаются в ней?
Серо. Морозно. Тихо. Наслаждаюсь этой тишиной после трех бурных дней.
Понедельник, 10 декабря 1973
Вчера проповедовал в St. John the Divine3 : «диалог» с Мортоном4 . Слушая мой любимый англиканский гимн «Let All Mortal Flesh Keep Silence»[104], вспоминал первые поездки в Англию – в 1937 и 1938 гг., особенно недели, проведенные в Стемфорде, когда ходил каждый день в очень high church5 к обедне. А в лицейские годы каждый день, идя по rue Legendre в Lycee Carnot, заходил на две минуты в St. Charles de Monceau. И всегда в огромной, темной церкви у одного из алтарей шла беззвучная месса. Христианский Запад: это для меня часть моего детства и юности, когда я жил «двойной» жизнью: с одной стороны – очень светской и очень русской, то есть эмигрантской, а с другой – потаенной, религиозной. Я иногда думаю, что именно этот контраст – между шумной, базарной, пролетарской rue Legendre и этой, всегда одинаковой, вроде как бы неподвижной мессой (пятно света в темной церкви), один шаг – и ты в совсем другом мире, – что этот контраст изнутри определил мой «религиозный опыт», ту интуицию, что в сущности уже никогда меня не оставляла, – сосуществования двух разнородных миров, «присутствия» в этом мире чего-то совершенно, абсолютно иного, но чем потом все так или иначе светится, к чему все так или иначе относится, Церкви как Царства Божия «среди» и «внутри» нас. Rue Legendre не становилась от это-
1 "Кто вам сказал, что человек должен что-то сделать на этой земле?" (фр.).
2 ручку (фр.).
3 епископальном соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
4 "Да молчит всяка плоть человеча…" (англ.).
5 высокую Церковь (англ.). Высокая Церковь – течение в англиканстве, тяготеющее к англо-католицизму.
го – и в этом все дело, все мое внутреннее отталкивание от чистого спиритуализма – ненужной, враждебной, несуществующей. Напротив – говоря очень приблизительно, – она приобретала как бы новый шарм, но понятный, очевидный только мне, знавшему ее "отнесенность" к этой fete a l'ecart1 , к этому «присутствию», являемому в мессе. Мне все делалось страшно интересным: каждая витрина, лицо каждого встречного, конкретность вот этой минуты, этого соотношения погоды, улицы, домов, людей. И это осталось навсегда: невероятно сильное ощущение жизни в ее телесности, воплощенности, реальности, неповторимой единичности каждой минуты и соотношения внутри ее всего. А вместе с тем интерес этот всегда был укоренен как раз и только в отнесенности всего этого к тому, о чем не столько свидетельствовала или напоминала беззвучная месса, а чего она сама была присутствием, явлением, радостью. Но что такое, в чем эта «отнесенность»? Мне кажется, что именно этого я никак не могу объяснить и определить, хотя, в сущности, только об этом всю жизнь говорю и пишу (литургическое богословие). Это никак не «идея»: отталкивание от «идей», все растущее убеждение, что ими христианства не выразишь. Не идея «христианского мира», «христианского общества», «христианского брака» и т.д. «Отнесенность» – это связь, но не «идейная», а опытная. Это опыт мира и жизни буквально в свете Царствия Божия, являемого, однако, при посредстве всего того, что составляет мир: красок, звуков, движения, времени, пространства, то есть именно конкретности, а не отвлеченности. И когда этот свет, который только в душе, только внутри нас, падает на мир и на жизнь, то им уже все озарено, и сам мир для души становится радостным знаком, символом, ожиданием. Отсюда моя любовь к Парижу, моя внутренняя нужда в нем. Она оттого, что именно в Париже, в моем парижском детстве этот опыт был мне дан, стал моей сущностью. И теперь, когда я там не живу, когда у меня там нет никаких дел и обязанностей, он стал для меня, каждый раз, погружением в этот изначальный опыт, его как бы возобновлением. И мне все кажется, когда я один, без конца, просто хожу по его улицам, что он сам, больше чем что-либо другое в мире, возник, вырос из этого опыта, что тут тайна христианского мира, родившегося, как культура, как стиль, как основной опыт, как раз из опыта «отнесенности». В Риме (который я исходил вдоль и поперек осенью 1963 года) все распадается на «красоты» всех эпох и культур, все напоминает – но прошлое и его бренность. В Афинах мне всегда чудится ненавистное мне язычество, та самая «священная плоть», о которой вопил Мережковский и которая и вызывает, как реактив, чистый спиритуализм, манихейство или же тот священный «православный быт», который есть как бы обратная сторона языческой «священной плоти». Только в Париже, в самой его «ткани» и стиле, я ощущаю, почти в чистом виде, эту соотнесенность, ту меру, которая одновременно есть и граница, грань. Граница, сама собою как бы указывающая на то, что по ту сторону ее, на существование, присутствие другой стороны. В Риме есть трагизм и есть веселье. В Париже есть печаль и есть радость, и они почти всегда сосуществуют, пронизывают одна другую. И красота Парижа – из «отнесенности». Она не самодовлеющая, не торжествую-
1 "Праздник на стороне, отдельно" (фр.).
щая, не мироутверждающая, не "жирная". В сущности такая, какой только и может быть красота в этом мире, в котором был Христос.
Кончил сегодня толщенную книгу Gay Talese "The Kingdom and the Power"1 – о «Нью-Йорк Таймс». Как в книге Sulzberger'a (The Age of Mediocrity), поражает больше всего и в этой – сила властолюбия. Непрекращающаяся, звериная борьба за власть, за успех. От этого чтения делается просто страшно. В каждом, самом даже маленьком «мирке» – эта борьба движет всем, все собою определяет и все отравляет. Борьба за власть – квинтэссенция падшего мира. Чтобы спастись, нужно бежать власти. Какой бы то ни было, всякой… видимой и невидимой (например, власти над душами). Я готов думать, что в этом мире всякая власть – от дьявола. Как человечны люди, никакой власти не имеющие и ни на какую власть не претендующие.
Среда, 12 декабря 1973
Вчера – день примечательных встреч. В час – завтрак с о.Георгием Граббе в ресторане отеля Commodore [о возможном соединении с Зарубежной Церковью]. Эта встреча, подготовленная "контактами" с Н.Н., тем не менее, неизмеримо приятнее, чем я, откровенно говоря, ожидал. Тот стиль людей "нашего круга", который все делает неизмеримо легче: знаешь, что не нарвешься на хамство, на грубость. Мы быстро соглашаемся, что препятствия не только к единству, но и к простой detente2 огромные. Соглашаемся с Талейраном, что «la politique c'est l'art du possible»3 . И все же что-то определенно «сдвинулось», ибо разговор идет не о дьявольщине Патриархии, не об «апостазии»4 и вообще не о всей привычной «зарубежной» риторике, а о том, как достичь какого-то соглашения без – с одной стороны – совершенно невозможного отказа от автокефалии, а с другой – столь же невозможного отказа от идей Русской Зарубежной Церкви. Договариваемся и до agenda5 : Москва, «чистое Православие», полемика. Договариваемся, главное, продолжать пытаться «договариваться». Увидим. Теперь нужно будет сильно думать о «формуле». О.Граббе – очевидно не фанатик, что я всегда знал (об о. Константине Зайцеве он говорит: «Это интеллигент, так до конца никогда не воцерковившийся»). Но он консерватор в чистом виде, в смысле нечувствия проблем, окромя формальных (канонических, организационных). Чистое Православие, ему это несомненно, включает всенощную – и точка. «Проблема всенощной» – очевидно уже склонение в модернизм и т.д. «Американцев» – то есть карпатороссов, галичан и пр. – нужно просто учить русскому Православию, то есть в конце концов некоему бытовому стилю. Все это – мои формулировки, но они точно соответствуют психологическому типу о.Граббе. В этом смысле у карловчан действительно есть стиль – а не только «стилизация», но это делает всякий разговор с ними столь трудным, ибо стиль исключает возможность
1 "Царство и власть" (англ.).
2 разрядке напряженности (англ.).
3 "политика – это искусство возможного" (фр.).
4 Apostasy (англ.) – вероотступничество, богоотступничество.
5 повестке дня, программе (англ.).
просто понять, услышать то, что вне этого стиля и ставит его под вопрос. Горе, однако, в том, что если для людей поколения Граббе это органический стиль, то для более молодых, попадающих в их орбиту, это "стилизация", неизбежно ведущая к надрыву и нервозу. Может быть, каким-то внутренним чутьем он именно это и чувствует. Не знаю. Но от встречи и беседы не осталось никакого неприятного чувства, никакого осадка.
Из Commodore еду в мизерабельный Hotel Latham, где ждет меня милейший Миша Меерсон, недавно приехавший из Парижа. Я встретился с ним в Париже в июне. Провел несколько часов с ним и с покойным Колей Кишиловым на съезде РСХД. Необычайно светлая личность, но, как и все "новые", Меерсон одержим идеей "миссии", у него свои проекты (центр, журнал и т.д.). Русский мальчик, вносящий поправки – уверенной рукой – в карту звездного неба. Это не самомнение, не гордость и даже не самоуверенность. Это плод подполья, необходимости годами и в одиночестве, в некоем безвоздушном пространстве, вынашивать идеи. Но порыв, чистота, идеализм – поразительные.
Перечитал написанное в понедельник и в свете этого еще раз ощутил смысл того, что в самом деле меня всегда как бы удивляло – с самого детства: странное удовольствие, почти счастье от созерцания, от ощущения мира "со стороны". Именно не просто "ухода" (какое мне, мол, дело!), не равнодушия, а внутреннего detachment1 . В детстве – пустота корпуса в субботу и в воскресенье, когда мы не ездили в отпуск. Пустой класс. Пустая церковь. На прогулке в Экуенский лес: оказаться близко от других, но одному и вдруг ощутить, с необычайной силой пережить вот этот лес, эти пустые, мокрые ветки на фоне серого неба, все то, что заглушается людьми, но что живет своей особой жизнью, наполненностью каждой минуты какой-то нераздробленной полнотой. Дальше – в эпоху лицея: воспоминание о пустых улицах, о фонарях – между лицеем в субботу вечером и всенощной на rue Daru. Десять минут, как бы всего лишь и только «функциональных» – дойти от лицея до церкви, не имеющих никакого самостоятельного смысла или «ценности». Но почему эти «функциональные» минуты остались и живут в памяти гораздо сильнее и ярче, чем то, что связывали? Сами стали несомненной ценностью, тайной радостью?
Четверг, 13 декабря 1973
Вчера вечером в Princeton Club обед с греками: архиепископ Иаковос, два его викария, три священника. Наш митрополит – хозяин. Все было дружно, даже приторно, но думалось – вот в Церкви торжество дипломатии. Встречаемся с задней мыслью: как поймать другого. После таких "дипломатических" встреч всегда осадок грусти. Обед полагал начало "bilateral conversations"2 (!). Буквально как Израиль и арабы.
Продолжение предыдущего: до сего дня ехать куда-нибудь для меня не только так же важно, как доехать, но в сознании отделяется в нечто самостоятельное и самоценное, без отношения к тому, куда едешь.
1 отрешение, отстраненности (фр.).
2 двусторонним переговорам (англ.).
Пятница, 14 декабря 1973
"Христос никогда не смеялся". Думал об этом вчера во время Christmas Party1 в семинарии, где смехом, очень хорошо сделанными сценами из семинарской жизни как бы «экзорцировались» все недоразумения, все испарения нашего маленького и потому неизбежно подверженного всяческой мелочности мирка. Разные качества смеха. Но есть, несомненно, смех как форма скромности. Восток почти лишен чувства юмора – отсюда так много гордыни, помпезности, наклонности tout prendre au tragique2 . Меня всегда утомляют люди без чувства юмора, вечно напряженные, вечно обижающиеся, когда их низводят с высот, «моноидеисты». Если «будьте, как дети», то нельзя без смеха. Но, конечно, смех, как и все, – пал и может быть демоническим. По отношению к идолам, однако, смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое.
Вчера, в сумерках, длинный разговор с Л. о детстве, об Андрее, о нашей с ним жизни до свадьбы. Как, в сущности, мы были тогда далеки друг от друга! И как потом стали близки. Когда я вспоминаю свою жизнь, то всегда больше всего ощущаю ее вечный "полицентризм". Ни в один из "миров", в которых я одновременно жил, я никогда не "уходил с головой", ни с одним внутренне до конца себя не отождествлял, всегда имел другой, в который каждую минуту можно было уйти. При этом я знаю, что я никогда не был одиночкой, а напротив – крайне общественным существом. Но мне всегда была очевидной невозможность уйти во что бы то ни было именно "с головой". Голова оставалась свободной и отрешенной. Так было уже в корпусе. Я принимал – без всяких оговорок – тот мир, который он нам передавал: военный, русский, романтически-геройский. И одновременно "уходил" в тогдашний другой полюс – к о.Шимкевичу, в разговоры о Подворье, о Церкви, о богословии, и он даже раздражался на меня – зачем мне нужны все эти детали; а для меня они были жизнью. И так было потом всегда – и в эпоху лицея, и "светской жизни" – вечеринок на rue de la Faisanderie, и Подворья, и Движения3 . Словно вся прелесть каждого «мира» в том как раз, что из него можно уйти, что есть, цитируя Набокова, – «другое, другое, другое…» Или, по Green'у, «tout est ailleurs». Но это никак не «бездомность» и не «богема» – в сущности я обеих не выношу. Я обожаю дом, и для меня уехать из него с ночевкой всегда подобно смерти, возвращение кажется бесконечно далеким! Наличие в мире дома – всех этих бесчисленных освещенных окон, за каждым из которых чем-то «дом» – меня всегда наполняет светлой радостью. Я, как Мегре, почти хотел бы в каждый из них проникнуть, ощутить его единственность, качество его жизненного тепла. Всякий раз, что я вижу мужчину или женщину, идущих с покупками – значит, домой, я думаю – вот он или она идет домой , в свою настоящую жизнь. И мне делается хорошо, и они делаются мне какими-то близкими. Больше всего меня занимает – что делают люди, когда они «ничего не делают», то есть именно живут . И мне кажется, что только тогда решается их судьба, только тогда их жизнь становится важной. "Мещанское счас-
1 рождественской вечеринки (англ.).
2 воспринимать все трагически (фр.).
3 Имеется в виду Русское студенческое христианское движение.
тье": это выдумали, в это вложили презрение и осуждение активисты всех оттенков, то есть все те, кто, в сущности, лишен чувства глубины самой жизни, думающих, что она всецело распадается на дела. Великие люди – де Голль, например, – на деле «маленькие» люди, и потому от них так мало остается, или, вернее, интерес, после их ухода, все больше и больше сосредотачивается на «маленьком» в них, на их жизни , а не на их делах, которые оказываются в значительной мере призрачными! «Он не имел личной жизни», – говорим мы с похвалой. А на деле это глупо и грустно; и тот, кто не имел личной жизни, в конце концов никому не нужен, ибо людям друг от друга и друг в друге нужна жизнь . Бог дает нам Свою жизнь («чтобы имели мы жизнь за жизнь» – Кавасила), а не идеи, доктрины и правила. И общение только в жизни, а не в делах. Поэтому дом и не противоречит «tout est ailleurs», который противоречит почти всякой деятельности. Дома, когда все «сделано» (пришел с работы…), воцаряется сама жизнь, но она-то и открыта одна – «другому, другому, другому». Христос был бездомен не потому, что презирал «мещанское счастье», – у Него было детство, семья, дом, а потому, что Он был «дома» всюду в мире, Его Отцом сотворенном как дом человека. Только «дому» (не государству, не деятельности и т.д.) можно, по Евангелию, сказать: «Мир дому сему». Мы не имеем «зде пребывающего града», то есть не можем отождествить себя ни с чем в мире, потому что все ограничено и всякое отождествление становится – после Христа – идолопоклонством, но мы имеем дом – человеческий и дом Божий – Церковь. И, конечно, самое глубокое переживание Церкви – это именно переживание ее как дома . Всегда то же самое, всегда и прежде сама жизнь (обедня, вечер, утро, праздник), а не деятельность. «Церковная деятельность», «церковный деятель», «общественный деятель» – какие все это, в сущности, грубые понятия и как от них – ни света, ни радости…
Понедельник, 17 декабря 1973
В пятницу – чудный вечер с внуками в Wappingers Falls, а Ани и Тома, где я ночевал и где на следующее утро была архиерейская служба с двумя хиротониями наших студентов. После того как я в то утро написал о доме и о жизни, вечер этот был как бы исполнением написанного, его очевидностью.
Вчера после обедни и до шести часов вечера у нас – Миша Меерсон, и одна нескончаемая беседа – о России, о Православии, о Западе и т.д. Из него просто льются свет и чистота. Для меня особенно радостно – это наше согласие в том, в чем я так остро чувствую свое одиночество в Православии: в отталкивании от тех его "редукций", что нарастают на наших глазах и в России, и вне ее, от этого обожествления – будь то "византинизма", будь то "русизма", будь то "духовности" и т.д. Согласие в формуле христианства: "персонализм" и "историчность", их антиномическая сопряженность. Согласие в отрицании традиционного отождествления православности прежде всего с крестьянством, с природой, с "органичностью". Именно крестьянство растворило христианство в язычестве. Чудный разговор: удивительно, что только русские "оттуда" сохранили тайну этой беседы, этого разговора как действительного общения.
Весь день вчера – снег. Сегодня все белое, неподвижное, морозное. Сегодня нашему маленькому Саше – один год!
В свете вчерашнего разговора с Мишей думал сегодня о моей встрече в прошлый вторник с о.Г.Граббе. Он говорит: наша цель – сохранить "чистое Православие". На деле же, конечно, наш спор, наше коренное разногласие совсем о другом. "Чистое Православие" для него это, прежде всего, исключительно, быт . Никакой мысли, никакой «проблематики» или хотя бы способности ее понять у них нет; есть, напротив, органическое отталкивание от нее, ее отрицание. И с их точки зрения отрицание и отталкивание правильное – ибо всякая мысль, всякая «проблема» есть угроза быту . Между тем, весь теперешний кризис христианства в том и состоит, что рухнул «быт», с которым оно связало себя и которому, в сущности, себя подчинило, хотя и окрасило его в христианские тона. Но вопрос совсем не в том, был ли этот быт плох или хорош, – он был одновременно и плох, и хорош, а только в том, можно ли и нужно ли за него держаться, как за conditio sine qua non1 самого христианства, самого Православия. «Они» на этот вопрос отвечают стопроцентным, утробным да . Поэтому и так легко из быта переходят в «апокалиптику». Парадоксальным образом апокалиптический надрыв рождается именно из «бытовиков», как реакция на гибель быта, органической жизни, обычаев, уклада. Отсюда также их инстинктивный страх таинств (частого причащения и т.д.). Ибо таинство – эсхатологично, оно не умещается только в быт (в который, однако, прекрасно умещается «умилительный обычай ежегодного говения»). Отталкивание от культуры и от богословия. Ибо, опять-таки, и культура, и богословие – эсхатологичны по самой своей природе. Они вносят в быт проблематику, вопрошание, трагизм, искание, борьбу, они все время угрожают статике быта. Культуру «бытовики» принимают только когда она отстоялась и, ставши частью быта, оказывается как бы «обезвреженной», безопасной бритвой. Когда они уже знают, что и как следует о ней думать (или не думать). При жизни Хомякова считали модернистом и ниспровергателем устоев, теперь для «бытовиков» он символ и воплощение консерватизма. И это так потому, что «бытовики» абсолютно неспособны воспринять какое бы то ни было современное творчество, духовно разобраться в нем. И христианство, и Православие только тем и хорошо, и «приемлемо» для них, что оно древнее, что оно в прошлом, само – субстрат и санкция быта. Поэтому всякие слова (творчество) – самые подлинные, самые истинные, но не облеченные в привычную сакрально-бытовую форму – «бытовики» просто не слышат, для них это сразу угроза, опасность, расшатывание чего-то. Но, конечно, мироощущение это в последнем итоге пронизано просто неверием, и в этом его трагизм и греховность. И трагизм этот усугубляется тем, что обращение в такую «бытовую церковность», в такое «чистое Православие» в эпоху, когда этот быт как данность, как нечто реально существующее и тем самым оправданное – рухнул, неизбежно оказывается надрывом и ведет к глубокому духовному заболеванию. Как стилизация в искусстве, рождаясь при распаде стиля, приводит к смерти искусства, так, на гораздо большей духовной глубине, «бытовизм» в религии (возмож-
1 Непременное, обязательное условие (лат.).
ный теперь только как стилизация) приводит к заболеванию самой веры. Плоды этого духа: страх, узость, ненависть, полная неспособность распознать Духа… И потому живем мы сейчас в эпоху настоящего экзамена и христианству вообще, и Православию в частности. Чем само оно живо и животворит?
Увы, на вопрос этот, кроме ответа "бытовиков" – целостного, убежденного и потому отчасти услышанного, – другого столь же целостного ответа пока что не существует. Вот тут-то и рождаются редукции: византийская, индивидуально-духовная ("читайте Исаака Сирина!"), "исконная", какая угодно. В сущности все это эрзацы "бытовизма", только более утонченные, умственные. Все это такие же уходы от реальности, от самой жизни, от ее вечной открытости и, следовательно, "проблематичности". И вот, как это ни звучит горделиво, я чувствую, что этот ответ у меня есть, что он для самого меня как бы "просвечивает" во всем том, что я пытаюсь сказать, написать, выразить, но что его трудность в том как раз, что ни в какую систему, ни в какой "рецепт" он не укладывается, что из него не следует никакая система правил для жизни, что его ни из чего внешнего не выведешь. Ибо это опять и именно мироощущение , в котором центрально, существенно и решающе как раз «просвечивание», «отнесенность» всего к «другому», эсхатологизм самой жизни и всего в ней, который антиномически делает все в ней ценным и значительным . Источником же этого эсхатологизма, тем, что делает это «просвечивание», эту «отнесенность» возможными, является Таинство Евхаристии, которым поэтому изнутри и определяется Церковь и по отношению к самой себе, и по отношению к миру, и по отношению к каждому отдельному человеку и его жизни. Ошибка «бытовиков» не в том, что они придают исключительное значение внешним формам жизни. В этом они правы против всех тех псевдо-духоносцев, одинаково религиозных и культурных, которые одержимы тем, чтобы прорваться к содержанию помимо формы или путем ее разрушения и разложения (сюрреализм, беспредметная живопись, автоматическое письмо, «харизматики» всех оттенков). Их ошибка в манихейской абсолютизации одной формы, в превращении ее в идол и тем самым в отрицание ее «отнесенности» к другому . «Проходит образ мира сего» – это значит не то, что этот образ плох или не нужен, что можно вообще обойтись без «образа» – формы, ритма и т.д., что христианство уводит в какую-то «безбытность», а то, что этот образ во Христе стал «проходящим», динамическим, «отнесенным», открытым. Что, десакрализуя быт (язычество), христианство сделало возможным все сделать «бытом» в высшем смысле этого слова, все сделать «образом». И только в ту меру, в какую он «проходит», то есть сам себя все время «относит» к тому, что за ним, над ним, впереди, – он и становится действительно «образом». А для того, чтобы этот опыт («проходит образ мира сего») стал возможным и реальным, нужно, чтобы в этом мире был дан также и опыт того самого, к чему все «отнесено» и относится, что через все «просвечивает» и всему дает смысл, красоту, глубину и ценность: опыт Царства Божия, таинством которого является Евхаристия. (Не одно только «преложение даров», а та Литургия, которая и являет Царство Божие и исполняется в приобщении за трапезой Христовой в Его Царствии). Церковь оставлена в мире, чтобы совершать Евхаристию и спасать человека, восстанавливая его евхаристичность . Но Евхаристия невозможна без Церкви, то есть без общины, знающей свое уникальное, ни к
чему в мире не сводимое назначение – быть любовью, истиной, верой и миссией, всем тем, что исполняется и явлено в Евхаристии, или еще короче – быть Телом Христовым. Евхаристия «объясняет» Церковь как общину (любовь ко Христу и любовь во Христа), как истину (кто Христос? – единственный вопрос всего богословия) и как миссию (обращение всех и каждого ко Христу). Другого назначения, другой цели у Церкви нет, нет своей, отдельной от мира – «религиозной жизни». Иначе она сама делается «идолом». Она есть дом , из которого каждый уходит «на работу» и куда каждый возвращается с радостью, чтобы дома найти саму жизнь, само счастье, саму радость, куда каждый приносит плоды своего труда и где все претворяется в праздник, свободу и полноту. Но именно наличие, опыт этого дома – уже вневременного, неизменного, уже пронизанного вечностью, уже только вечность и являющего, – только это наличие может дать и смысл, и ценность всему в жизни, все в ней к этому опыту «отнести» и им как бы наполнить. «Проходит образ мира сего». Но только «проходя» и становится мир и все в нем, наконец, самим собой: даром Божиим, счастьем приобщения к тому содержанию , формой, образом которого он является.
Четверг, 20 декабря 1973
Во вторник завтрак в Oyster Bay с Александром Николаевичем Артемовым, главой НТС1 (по его и о.Кирилла Фотиева инициативе). Милый, искренний, хороший человек, но той специи, что я разглядываю с некоторым недоумением: "зоон политикон". И потому выше чего-то и глубже чего-то разговор не поднимается.
Письмо из Брюсселя от Melitine Fabre (которая переводит на французский мое "Введение в литургическое богословие", единственная мне известная православная почитательница моей книги). Она пишет: "J'avoue que je suis souvent agacee par les discours et conferences orthodoxies triumphalistes et verbeux. Les 'integristea' catholiques nous flatten et les 'progressistes' nous poussent a nous enforcer dans nos pires defauts, par reaction contre le 'secularisme'…"2 Абсолютно точно, но сколько людей, это понимающих?
Снег. Лед. Мороз. Начали вчера трипесницы предпразднества. "Готовься, Вифлееме!.." В семинарии атмосфера конца, разъезда.
Вчера 19 декабря. Николай Чудотворец по старому стилю – наш "корпусной праздник". Почему-то вспомнился один из самых первых, оставшихся в памяти как некая квинтэссенция "праздничности". Утром, чтобы занять нас, капитан Маевский читал нам – то есть "первому взводу" – "На Новике". Потом обход, гости – генералы Миллер, Ознобишин, Эрдели. Какие-то радостные дамы. Mutatis mutandis[120], прямо из "Войны и мира". И наше чувство, что мы неотрываемая часть этого мира.
1 Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) – общественно-политическая антибольшевистская организация русской эмиграции, основанная в 1930 г .
2 "Признаюсь, что меня часто раздражают православные речи и выступления своим триумфалистским и многословным стилем. Католические 'интегристы' нам льстят, а 'прогрессисты' усугубляют наши худшие недостатки своей реакцией против 'секуляризма'" (фр.).
Понедельник, 7 января 1974
С 25-го декабря (вечер Рождества) до 5-го января в Париже с Льяной. Как всегда – много времени с Андреем и мамой. Как всегда – много одиноких, или вдвоем, прогулок по Парижу. В пятницу 28-го в YMCA – бомба! – выход "Архипелага ГУЛаг" Солженицына. Книга буквально и во всех смыслах этого слова – потрясающая! О ней буду писать отдельно – сегодня же – для "Вестника". 29-го традиционный завтрак с Никитой и Машей Струве в "Russin d'Arcadie" на place de la Sorbonne. Новый Год у Кобцевых в Ableiges. Обедня на Olivier de Serres1 . 3-го ужин у Фиса с Синявским. Длинный apres-midi2 с Melitine Fabre, переводчицей моего «Введения». У Prunier с Бусей. «Cousins et cousines»3 у Андрея в полном комплекте: Маги и Ирина, Жорж, Мара с Сережей, Отар с Ниной. St. Lambert. Все как всегда – «и все чудесней – дышать прошедшим на земле»4.
Четверг, 10 января 1974
Сегодня нашей Анюте – тридцать лет! А как будто это было вчера. Каких удивительных, хороших детей дал мне Бог. Об этом думал сегодня утром и позавчера – во вторник – после ужина в [ресторане] "Le Bistro" с Маней и Сережей.
Вчера отослал Никите статью об "Архипелаге", родившуюся, неожиданно для меня, быстро – в ответ на эту "сказочную книгу" (так и назвал статью). Все еще под ее впечатлением, вернее – в удивлении, радостном и благодарном, перед самим "феноменом" Солженицына. Мне кажется, что такой внутренней широты – ума, сердца, подхода к жизни – у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого ее нет, в чем-то, где-то – проглядывает костяк идеологии). И ведь к какой жизни так подходит Солженицын…
Вчера – трехчасовой разговор с о.А.Лебедевым, молодым (двадцать три года!) "зарубежным" священником из Бриджпорта. Симпатичный, явно искренний, убежденный, по-своему "широкий". Но, Боже мой, какая все-таки путаница, и не только мыслей, но именно опыта, сознания. Какое "маленькое" Православие они любят, сколько у них идолов, фетишей, скованности внутренней. Впечатление такое: если на секунду сойдут со своих рельс – все лопнет, и вот они держатся за эти "рельсы", уже даже и не спрашивая, откуда и куда они ведут. Ужасно тягостное впечатление от этого разговора, главное потому, что в одном-то они правы: в утверждении нашей духовной слабости, половинчатости, минимализма. После этого – обостренное чувство одиночества, невозможности – в этих условиях – сказать главное. Вечное желание – свободы, чтобы быть ответственным. Ненависть к церковной "политике", ко







